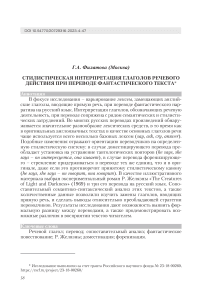Стилистическая интерпретация глаголов речевого действия при переводе фантастического текста
Автор: Филатова Г.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В фокусе исследования - варьирование лексем, замещающих английские глаголы, вводящие прямую речь, при переводе фантастического нарратива на русский язык. Интерпретация глаголов, обозначающих речевую деятельность, при переводе сопряжена с рядом семантических и стилистических затруднений. Во многих русских переводах произведений обнаруживается значительное разнообразие лексических средств, в то время как в оригинальных англоязычных текстах в качестве основных глаголов речи чаще используется всего несколько базовых лексем (say, ask, cry, answer). Подобные изменения отражают ориентацию переводчиков на определенную стилистическую систему: в случае доместицирующего перевода преобладает установка на устранение тавтологических повторов (he says, she says - он интересуется, она кивает), в случае перевода форенизирующего - стремление придерживаться в переводе тех же единиц, что и в оригинале, даже если это противоречит принятому стилистическому канону (he says, she says - он говорит, она говорит). В качестве иллюстративного материала выбран экспериментальный роман Р. Желязны «The Creatures of Light and Darkness» (1969) и три его перевода на русский язык. Сопоставительный семантико-синтаксический анализ этих текстов, а также количественные данные позволили изучить замены глаголов, вводящих прямую речь, и сделать выводы относительно преобладающей стратегии переводчиков. Результаты исследования дают возможность выявить формальную разницу между переводами, а также продемонстрировать возможные различия в восприятии текстов читателем.
Речевой глагол, перевод, сопоставительный анализ, фантастическое повествование, р. желязны, доместикация, форенизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149144370
IDR: 149144370 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-47
Текст научной статьи Стилистическая интерпретация глаголов речевого действия при переводе фантастического текста
Функционально-стилистический анализ художественного текста является значимым и активно развивающимся научным направлением современной филологии. Изучение использования единиц различных языковых уровней в разных функциональных стилях и их жанровых разновидностях представляется важной задачей при стилистической интерпретации любого произведения, но особенный интерес вызывает сопоставление переводческих стратегий при передаче языковых особенностей иноязычного текста и их переосмыслении.
В данной статье мы сосредоточимся на анализе единиц, обозначающих речевую деятельность, в первую очередь – глаголов речи. Этот функционально-семантический класс полнознаменательных глаголов занимает важное место в любом языке. С.М. Антонова указывает, что глагольная лексика говорения, «являясь в семиотическом отношении пропозитив-ной, в когнитивном отношении является метаязыковой – категоризующей и концептуализирующей речевую деятельность и человека говорящего» [Антонова 2003, 45].
Очевидно, что основное функциональное назначение глаголов речевой деятельности – обозначение процесса производства речи. Они уточняют, как именно происходит процесс коммуникации, конкретизируют условия речевого акта. «Констатация речевого акта может соединяться с внешней характеристикой речи» [Золотова и др. 2004, 287], и тогда глаголы речи не просто обозначают факт говорения, но и указывают на разные особенности говорящего – его коммуникативную цель, поведение, акустические характеристики голоса и манеры речи; и даже могут обозначать определенные действия. Автор, передавая чужое слово, характеризует речь в связи с коммуникативными интенциями говорящего или в связи с его эмоциональным состоянием [Золотова и др. 2004, 287].
При этом для обозначения процесса речевой деятельности в художественном тексте могут использоваться не только глаголы соответствующего функционально-семантического класса [Золотова и др. 2004, 61] – говорить, сказать, спросить , – но и другие, причем как глаголы, обозначающие частноперцептивное звуковое восприятие других персонажей [Сидорова 2000, 165] – например, шептать, бубнить, скрипеть , так и глаголы, которые обычно применяются для номинации действий совершенно других типов. Характеризуя возможность обозначить ситуацию говорения не только при помощи глаголов соответствующего класса, В.Е. Маясов замечает, что «в пространстве художественного текста эта группа существенно разрастается за счет употребления неречевых глаголов в функции речевых» [Маясов 2011, 121].
Важно, что далеко не во всех языках указанные выше явления проявляются одинаково. Н.К. Гарбовский отмечает, что дискурсивная норма английского и французского языка «для сопровождения реплик персонажей в диалогах… отдаёт явное предпочтение глаголу tо say » ( dire для французского языка), а «русский художественно-литературный дискурс предполагает значительную вариативность в употреблении глаголов речи» [Гар-бовский 2011, 14]. То есть стилистическая норма употребления глаголов речевой деятельности в русскоязычных и англоязычных текстах связана с выбором совершенно различных стратегий.
Повторение в тексте одних и тех же единиц чаще расценивается носителями русского языка как тавтология – стилистическая ошибка, которая допустима только в том случае, если для этого есть веские причины – например, особая эстетическая задача или особые установки автора. А.В. Уржа, анализируя употребление глаголов, вводящих речь, в произведениях для детей и их переводах на русский язык, приходит к выводу, что
«многократное повторение одного и того же глагола при введении реплик персонажей не вызывает неприятия у англоязычных читателей, тогда как русскоязычная аудитория склонна трактовать это явление либо как тавтологию, либо как специальную стилистически окрашенную нарративную стратегию» [Уржа 2018, 120].
А. Вежбицкая, исследуя передачу эмоций, указывает, что для русского языка характерно использование глаголов эмоционального восприятия как речевых, в то время как в английском языке эмоции чаще передаются другими частями речи (например, прилагательными) [Вежбицкая 1996, 41]. Она связывает это с культурными различиями: «англосаксонской культуре свойственно неодобрительное отношение к ничем не сдерживаемому словесному потоку чувств, между тем как русская культура относит вербальное выражение эмоций к одной из основных функций человеческой речи» [Вежбицкая 1996, 43], поэтому «эмоциональные» глаголы, подразумевающие более активного субъекта, в русском языке логичным образом встраиваются в текст вместо стандартных глаголов, обозначающих говорение.
В определенном смысле разницу между переводческими стратегиями – сохранением одинаковых глаголов речи в рамках английской стилистической системы или добавлением привычного для русской стилистики варьирования глаголов – можно описать как разницу между подходами к переводу вообще, которые исследователь Л. Венути назвал доместикацией и форенизацией [Venuti 1995]. Доместикация предполагает такой перевод текста, при котором оригинал интерпретируется в соответствии с нормами принимающего языка, даже если для этого придется допустить отклонение от первоначального текста. Форенизация предполагает сохранение структуры оригинала, даже если читатель перевода будет вынужден «пробираться» через грамматические конструкции и сюжетные отсылки, призванные максимально точно воспроизвести языковые особенности первоначального текста. Таким образом, для доместицирующих переводов вполне закономерны и ожидаемы разнообразные варьирования глаголов, вводящих речь, а переводы форенизирующие с большей долей вероятности будут воспроизводить «тавтологичное повторение» глаголов, свойственное англоязычному оригиналу.
Рассмотрим, как различные стратегии передачи глаголов речи реализуются в переводе сложного фантастического текста.
Материалом исследования является роман Р. Желязны «Creatures of Light and Darkness» и его русские переводы. Роман «Creatures of Light and Darkness» задумывался как письменное упражнение [Covacs 2009], и автор первоначально не собирался его публиковать. Однако позже, в 1968– 1969 гг., в журнале научной фантастики «If» была издана версия романа в трех частях – отдельными главами и с некоторыми сокращениями, а в 1969 г. он был опубликован полностью. Существует три наиболее известных перевода романа на русский язык: перевод В. Лапицкого «Порождения света и тьмы» [Желязны 1992], перевод М. Денисова и С. Барышевой «Создания света – создания тьмы» [Желязны 1993a] и перевод А. Ганько
(псевдоним коллектива переводчиков издательства «Центрполиграф») «Создания Света, Создания Тьмы» [Желязны 2003]. Также опубликован анонимный перевод [Желязны 1993b], вышедший в 1993 г., однако, к сожалению, он имеет довольно низкое качество и во многих случаях содержит аграмматичные калькированные конструкции, которые нельзя объяснить форенизирующим замыслом переводчика.
Действие произведения разворачивается в далеком будущем, где люди населяют множество миров и используют различные футуристические технологии. В данном романе основным источником культурных заимствований является египетская мифология, но встречаются прецедентные имена и из других мифов (скандинавских и древнегреческих), при этом мифологическая принадлежность и функции ряда персонажей переосмысляются: дракон Тифон из греческой мифологии включается в египетский пантеон и становится лошадиной тенью, скандинавские Норны утрачивают антропоморфную внешность и связь с судьбами человечества, а бог Осирис, вопреки древнеегипетским мифам, узурпатор и скорее антагонист. Для нашего аспекта исследования это значимо, поскольку часть героев – не вполне люди и даже не гуманоиды (например, Анубис – бог с головой шакала; бог Тифон, имеющий облик черной лошадиной тени; человекоподобные роботы), а поэтому для обозначения их речевых действий вполне могут быть использованы глаголы, в норме не употребляемые по отношению к человеку: лаять, гудеть, грохотать и т.д.
Текст насыщен диалогическими фрагментами, при этом в большинстве случаев имеется указание на особенности протекания речевого акта, поэтому произведение является репрезентативным материалом для нашего исследования.
Для анализа нами были выбраны наиболее частотные глаголы речи в английском тексте: say (245 словоупотреблений), ask и cry (по 26 словоупотреблений), inquire (15 словоупотреблений), reply (13 словоупотреблений), answer (8 словоупотреблений). Также в выборку были включены описательные единицы come words , come voice, come reply , которые в русском языке соответствуют глагольно-именным перифразам, синонимичным глаголам речи: приходит ответ, раздается голос, раздаются слова и т. д.
Наиболее частотным глаголом речевого действия в английском оригинале является глагол to say , имеющий нейтральную стилистическую окраску, не демонстрирующий характерных и физиологических особенностей героев и не передающий никакого отношения автора к персонажам. В русских переводах оказались ярко представлены три разные стратегии интерпретации речевых актов с использованием данного глагола.
В переводе Лапицкого глагол say практически всегда переводится глаголом говорить : отступления от этого фиксируются всего лишь в 12% случаев (29 форм, из которых 3 раза глагол отсутствует). При этом интересно отметить, что переводчики в принципе несколько раз добавляют в текст глагол речевого действия там, где этого нет в английском оригинале; однако в переводе Лапицкого это всего одно добавление и именно глагол говорить .
Ровно на противоположном полюсе находится перевод Ганько, в котором глагол говорить встречается всего в 10% случаев (25 раз). Этот перевод в целом наиболее широко представляет синонимические возможности русского языка по использованию глаголов вербального действия. При этом значительная часть глаголов является контекстуальными синонимами, то есть их появление обусловлено исключительно некоторыми личными чертами персонажей. Это, например, глаголы лаять, взлаивать, скалиться, рычать , которые относятся к Анубису – богу с головой шакала; глагол гудеть относится к одному из главных героев, временно превращенному в робота. Также именно для этого перевода стоит отметить широкий стилистический спектр используемых лексем: это и стилистически возвышенное отверзает уста, вопрошает, ответствует, изрекает, вещает, и стилистически сниженное фыркает, урезонивает и др. (здесь и далее стилистические пометы приводятся по данным русских толковых словарей [Кузнецов; Ожегов, Шведова], значения английских глаголов даются по английским толковым словарям [Merriam-Webster Dictionary; Longman Dictionary of Contemporary English; MacMillan Dictionary]). Также следует отметить, что для текста Ганько в большей степени, чем для других, свойственно переводить глагол say кинемами – указанием на сопровождающие слова жесты и мимические движения [Шаховский 2009, 99]. Примеры сопоставлений можно увидеть в таблице ниже.
Таблица 1
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М. Денисов, С. Барышева |
А. Ганько |
|
says |
говорит |
[слышит голос] |
[отверзает уста] |
|
says |
говорит |
говорит |
приказывает |
|
says |
говорит |
говорит |
лает |
|
says |
говорит |
[проходят слова] |
[шепчут губы] |
|
says |
говорит |
говорит |
роняет |
|
says |
говорит |
соглашается |
кивает |
|
says |
говорит |
--- |
скалится |
|
says |
говорит |
--- |
бормочет |
|
says |
говорит |
--- |
вещает |
|
says |
говорит |
говорит |
гудит |
Перевод Денисова и Барышевой находится примерно посередине между этими крайними вариантами: примерно 50% словоупотреблений занимает перевод говорить и еще в 7% случаев (чаще, чем в других переводах) на месте глагола say глагол вообще отсутствует.
Для глагола ask ситуация схожа: в переводе Лапицкого этот глагол во всех без исключения случаях (26 раз) переводится как спрашивать , в переводе Денисова и Барышевой спрашивать занимает чуть больше половины случаев (14 словоупотреблений) и также довольно часто элиминируется, в переводе Ганько глаголом спрашивать переводится меньше половины всех случаев (11 словоупотреблений).
Таблица 2
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М. Денисов, С. Барышева |
А. Ганько |
|
asks |
спрашивает |
усмехается |
усмехается |
|
asks |
спрашивает |
улыбается |
вопрошает |
|
asks |
спрашивает |
вопросительно смотрит |
недоумевает |
|
asks |
спрашивает |
интересуется |
любопытствует |
|
asks |
спрашивает |
--- |
бросает |
Примерно то же самое мы видим при анализе перевода глагола cry , который имеет два основных варианта интерпретации в русском языке – кричать или плакать . Перевод плакать встречается в русских текстах всего один раз, в одном месте у всех переводчиков, что обусловлено сюжетным моментом (и даже здесь у Ганько стенать ). В остальных случаях Лапицкий в большинстве словоупотреблений выбирает один глагол кричать , а больше всего синонимов снова используется в переводе Ганько.
Таблица 3
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М. Денисов, С. Барышева |
А. Ганько |
|
cries |
кричит |
кричит |
повелевает |
|
cries |
кричит |
кричит |
визжит |
|
cries |
кричит |
кричит |
ярится |
|
cries |
кричит |
раскатывается голос |
предупреждает |
|
cries |
восклицает |
спрашивает |
восклицает |
Чуть сложнее ситуация с глаголом inquire , поскольку для его максимально точного перевода на русский язык требуется указать на условия употребления; наиболее близкими являются глаголы спрашивать, узнавать , в некоторых случаях интересоваться . В переводе Лапицкого практически всегда используются именно эти глаголы – спрашивать и интересоваться (46% и 40% соответственно, один раз встречается переспрашивать и один раз – бормотать ). Интересно, что перевод Денисовой и Барышева в этом случае, напротив, почти всегда дает спрашивает . Переводчики под псевдонимом Ганько придерживаются выбранной стратегии: для перевода данных 15 словоупотреблений используется 9 разных лексем, в том числе никак не связанных с семантикой вопроса, запроса, узнавания: шипит, басит, усмехается .
Таблица 4
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М. Денисов, С. Барышева |
А. Ганько |
|
inquires |
спрашивает |
--- |
шипит |
|
inquires |
спрашивает |
спрашивает |
вопрошают |
|
inquires |
спрашивает |
спрашивает |
басит |
|
inquires |
переспрашивает |
спрашивает |
усмехается |
|
inquires |
интересуется |
спрашивает |
окликает |
Для глаголов reply, answer , нейтральным синонимом которых является отвечать , выбранная стратегия в каждом из переводов сохраняется: повтор одной лексемы в переводе Лапицкого, пропуск в ряде речевых актов в переводе Денисова и Барышевой и представление широкого синонимического ряда в переводе Ганько.
Таблица 5
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М. Денисов, С. Барышева |
А. Ганько |
|
replies |
отвечает |
соглашается |
кивает |
|
replies |
отвечает |
--- |
вздыхает |
|
replies |
отвечает |
--- |
--- |
|
replies |
отвечает |
отвечает |
смеется |
|
answers |
отвечает |
отвечает |
вздыхает |
Прочие глаголы присутствуют в романе в чрезвычайно малом количестве, но даже в переводе таких небольших семантических групп можно заметить соблюдение выбранной переводчиками тенденции.
Отдельно отметим случаи интерпретации класса выражений, обозначающих вербальные действия, которые реализуются через глагол come и указание на источник информации или тип звука: голос, слова, шум и т. д. Видно, что Лапицкий старается переводить как можно более буквально, ближе к тексту оригинала, оставаясь, однако, в пределах русской грамматической системы (в отличие, например, от анонимного перевода, где кальки-рованность выражений бросается в глаза), а остальные переводчики иногда отступают от оригинального выражения для усиления образности.
Таблица 6
|
R. Zelazny |
В. Лапицкий |
М. Денисов, С. Барышева |
А. Ганько |
Анонимный перевод |
|
comes the word, through dead lips |
произносят мертвые губы |
слышится слово |
шелестят губы усопших |
слышатся слова из мертвых губ |
|
his mouth opens and the words come down |
с языка Анубиса слетают слова |
холодные слова падают |
владыка отверзает уста, и его приказ доносится |
его рот открывается и слова обращаются |
|
comes a precise, cheerful voice |
раздается четкий, бодрый голос |
доносится |
весело отзывается некто |
раздается веселый голос |
|
come the green words |
приходят зеленые слова |
слова его приходят, как теплое зеленое сияние |
слова его в воздухе отливают зеленью |
доносятся зеленые слова |
По сопоставительному анализу перевода глаголов, вводящих речь, ярко прослеживаются разные стратегии переводчиков.
Для перевода Лапицкого важна ориентация на английский текст, сохранение его стилистики, а следовательно – сохранение повторов одних и тех же глаголов. Это форенизирующий текст, в котором обозначение речевых актов играет второстепенную роль, гораздо важнее действия персонажей и собственно содержание их реплик, а выражали ли они при этом какие-то эмоции или оценку – не так значимо.
Для перевода Денисова и Барышевой характерно некоторое срединное положение. Они, с одной стороны, ориентируются на русские стилистические каноны и вводят разные синонимы для перевода глаголов речи, но с другой – часто оставляют повторяющиеся лексемы, как в оригинальном тексте. Вероятнее всего, это связано со стремлением переводчиков создать в меру разнообразный текст. Однако именно в этом переводе чаще всего встречаются пропуски глаголов речи; видимо, предполагается, что читатель в состоянии понять по ситуации, кто какую реплику произносит и с какой эмоцией он это делает.
Наконец, для перевода Ганько характерна ориентация на доместикацию, подстраивание английского текста под русские стилистические нормы. В отношении интерпретации глаголов речи данный перевод можно даже условно назвать «словарем синонимов». У читателя это создает гораздо более детализированную картину: контексты диалогов становятся эмоционально насыщенными, что позволяет узнать больше о персонаже и его характере. Прагматическим эффектом таких замен становится экспликация эмоционального фона диалога, привлечение к нему читательского внимания. Однако здесь стоит учитывать, что это личные представления коллектива переводчиков, а не те смыслы, которые вкладывал в свой роман и реплики персонажей сам Желязны.
Список литературы Стилистическая интерпретация глаголов речевого действия при переводе фантастического текста
- Антонова С.М. Глаголы говорения - динамическая модель языковой картины мира: опыт когнитивной интерпретации. Гродно: ГрГУ, 2003. 519 с.
- Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. URL: http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/ (дата обращения: 26.08.2023).
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. 411 с.
- Гарбовский Н.К. Перевод и «переводной дискурс» // Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. 2011. № 4. С. 3-19.
- Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М.: Издательство филологического факультета МГУ, 2004. 544 с.
- Маясов В.Е. Глаголы речевой деятельности в замятинском тексте // Вопросы когнитивной лингвистики. 2011. № 3. С. 121-125.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1992. URL: http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ (дата обращения: 26.08.2023).
- Сидорова М.Ю. Грамматика художественного текста. М.: Центр-М, 2000. 416 с.
- Уржа А.В. Стратегии интерпретации глаголов, вводящих речь, в современных русских переводах художественной прозы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. 2018. Т. 17. № 4. С. 117-128.
- Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 208 с.
- Kovacs C.S. «...And Call Me Roger»: The Early Literary Life of Roger Zelaz-ny // The Collected Stories of Roger Zelazny. Vol. 2: Power & Light. Framingham: The NESFA Press, 2009. P. 531-570.
- Longman Dictionary of Contemporary English. URL: http://www.ldoceonline. com/howtouse.html (дата обращения: 26.08.2023).
- MacMillan Dictionary. URL: http://www.macmillandictionary.com (дата обращения: 26.08.2023).
- Merriam-Webster Dictionary. URL: http://www.merriam-webster.com (дата обращения: 26.08.2023).
- Venuti L. The Translator's Invisibility: A History of Translation. London; New York: Routledge, 1995. 353 p.