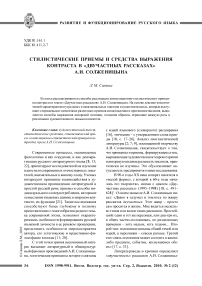Стилистические приемы и средства выражения контраста в «Двучастных рассказах» А. И. Солженицына
Автор: Савина Л.М.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются способы реализации композиционно-стилистического принци- па контраста в тексте «Двучастных рассказов» А.И. Солженицына. На основе лексико-семанти- ческой характеристики узуальных и окказиональных глаголов и существительных, которые высту- пают стержневыми элементами различных приемов сопоставления и противопоставления, выяв- ляются способы выражения авторской позиции, создания образов, играющие важную роль в реализации художественного замысла писателя.
Художественный текст, стилистические средства, стилистический прием, композиционно-стилистический принцип кон- траста, проза а.и. солженицына
Короткий адрес: https://sciup.org/14969488
IDR: 14969488 | УДК: 81.161.1
Текст научной статьи Стилистические приемы и средства выражения контраста в «Двучастных рассказах» А. И. Солженицына
Современные процессы, оцениваемые филологами и как оскудение, и как демократизация русского литературного языка [8; 13; 22], ориентируют исследователей на изучение идиостиля современных отечественных писателей, внимательных к живому слову. Ученых интересуют принципы взаимодействия в художественном произведении литературной и простой русской речи, приемы и способы индивидуального словоупотребления, авторское осмысление языковых единиц в широком контексте, их функции [21]. Такие исследования способствуют более глубокому и полному представлению о многообразии родного языка современной эпохи, позволяют охарактеризовать особенности формирования русской языковой личности в ее речевом проявлении, представить особенности мировосприятия автора, его эстетические и нравственно-философские взгляды [11; 20].
С этой точки зрения несомненный интерес вызывает литературный и общекультурный феномен произведений А.И. Солженицына, эстетические принципы которого связаны с идеей языкового (словарного) расширения [16], этические – с утверждением слова правды [18, с. 17–26]. Анализ лингвистической литературы [2; 7; 9], посвященной творчеству А.И. Солженицына, свидетельствует о том, что принципы и приемы, формирующие стиль, выражающие художественное мировоззрение и авторскую индивидуальность писателя, практически не изучены. Это обусловливает актуальность предпринятого нами исследования.
В 90-е годы ХХ века возврат писателя к «малой форме», с которой в 60-е годы началось его творчество, связан с циклом «Двучастные рассказы» (1995–1998) [18, с. 491– 628] 1. О своем замысле А.И. Солженицын писал: «Давно я задумал и томлюсь по жанру рассказов двучастных . Этот жанр – просто сам просится в жизнь. Мне видится несколько типов или видов таких рассказов. Простейший: один и тот же персонаж, или два-три их, в обеих частях-половинках, но разделенных временем – хоть малым, хоть годами… Второй тип: половинки связаны общей темой или идеей, а персонажи – совсем разные. Третий тип: связь половинок может состоять в каком-либо предмете, событии, коснувшемся обеих» [17, с. 33].
Литературоведы и критики определяют «двучастность» рассказов А.И. Солженицы- на как сложное и многоуровневое понятие: композиционное, семантическое, мировоззренческое [15], связанное с физическим принципом дополнительности [10], получившим широкое распространение в философии, литературе и лингвистике [4; 5; 14]. Данный принцип отражает логическое соотношение между двумя способами описания или наборами представлений, которые, хотя и исключают друг друга, оба необходимы, дает полную информацию о явлениях как о целостных. С этой точки зрения двучастное строение произведений – это попытка автора рассмотреть жизнь в ее сложности, в столкновении субъективного и объективного, двух эпох, двух поколений, двух мировоззренческих течений внутри каждого поколения и в каждом отдельном человеке и т. д.
Как свидетельствует материал, авторский замысел произведения реализуется с помощью приема контраста, обнаруживающегося в противопоставлении событийновременных периодов, образов персонажей, различных точек зрения на одно и то же явление и др.
В лингвистической традиции контраст, основанный на закономерностях человеческого восприятия и познания, рассматривается как тенденция человеческого ума в стилистической обработке [1, с. 194], как один из универсальных художественных и фундаментальных композиционно-стилистических принципов организации речи [3, с. 47]. Психофизиологическую основу принципа выявил Л.С. Выготский, показав, что процесс восприятия произведения «заключает в себе эффект, развивающийся в двух противоположных направлениях, который в завершительной точке, как бы в коротком замыкании, находит свое уничижение – катарсис» [6, с. 279]. Такое понимание контраста позволяет выделить его важнейшие характеристики: субъективность, гиперболичность, ассоциативность, возможность представлять при синтагматической смежности в качестве контрастных любые различия, а не только предельные (БСЭ, с. 67).
Языковые средства воплощения контраста, его роль в формировании замысла рассказов рассматриваются нами на материале глаголов и существительных, используемых в составе приемов, способствующих проявлению творческой индивидуальности в художественном произведении [12, с. 36].
В анализируемых произведениях принцип контраста реализуется, как правило, с помощью приемов акротезы и антитезы. Акроте-за, выделяемая в высказывании, равном предложению, используется для выражения отношений утверждения одной из противоположностей путем отрицания другой и может быть представлена структурно-семантическими схемами не Х, а (но) У; Х, а не У . Антитеза выявляется в предложении, сверхфразовом единстве, широком контексте произведения. Данный прием способствует воплощению отношений противопоставления противоположностей – Х, а (но) У ; соединения – Х и У ; разделения – Х или У ; сопоставления, сравнения – Х поверней У; Х не то что У.
В тексте рассказов автор использует акротезу с отрицательно-утвердительным ( не Х, а (но) У ) и утвердительно-отрицательным ( Х, а не У ) расположением частей. Данный прием реализуется словесными оппозициями, выделяемыми в зависимости от частеречной принадлежности стержневого элемента: глагол – глагол, существительное – существительное, существительное – глагол.
Анализ показывает, что глагольные пары составляют единицы с дифференциальными семантическими признаками ‘действовать свободно’ – ‘действовать по принуждению’; ‘лишить значения (положения)’ – ‘придать значение (положение)’; ‘физиологическое действие’ – ‘интеллектуальное действие’. Противопоставление существительное – глагол реализуется на основе признака ‘действие для достижения политической цели’ – ‘действовать для получения объекта в свое распоряжение’. Данные оппозиции включают нейтральную глагольную лексику и зафиксированную в современных словарях со стилистической пометой «разговорное»: …и тут надо не зевать, а видеть потаенное (с. 547); Но черт его знает, скопировали в точности, а секреты какие-то не ухватили… (с. 580); …и не выборы главное, а хватать помещичью землю (с. 494).
Пары существительных выделяются на основе таких дифференциальных семантических признаков, как ‘усиление положения субъекта’ – ‘уничтожение субъекта’; ‘наличие физических и душевных сил’ – ‘отсутствие физических и душевных сил’; ‘источник состояния’ – ‘место действия’; ‘труженик – грабитель’. В составе оппозиций противопоставленными оказываются единицы узуальные и окказиональные: Москва!.. Не могло быть города прекрасней Москвы, сложившейся не холодным планом архитектора, а стру-ением живой жизни многих тысяч и за несколько веков (с. 546). Существительное план в значении «чертеж, изображающий в масштабе на плоскости местность, предмет, сооружение и т. п. с полным сохранением пропорций» (МАС, т. III, с. 132) в сочетании с прилагательным холодный, то есть «рассудочный или безразличный, равнодушный» (там же, т. IV, с. 616), создает представление о плоском, упрощенном творении человеческого разума, не передающем многообразия бытия. Окказиональное существительное струение с семантикой процессуальности, образованное от глагола поступательного движения струиться, то есть «распространяться струей, узким потоком» (там же, т. IV, с. 292), в контексте с тавтологическим сочетанием живой жизни позволяет передать естественное, непрерывное течение жизни города и многих поколений людей, его населяющих. Отрицательно-утвердительное расположение компонентов оппозиции актуализирует истинное суждение, способствует выражению оценки автора и персонажа.
В тексте рассказов акротеза используется для указания на неожиданный результат действия, вывод: Только не сняли его, а возвысили в секретари обкома (с. 581); Значит это шаг не к возвышению, а в гибель (с. 516); уточнения: И потекли на те должности – крестьяне лишь по рождению, а не по труду (с. 547); создания художественного образа: Москва!.. Не могло быть города прекрасней Москвы, сложившейся не холодным планом архитектора, а струением живой жизни многих тысяч и за несколько веков (с. 546); установления приоритетов: ...и не выборы главное, а хватать помещичью землю (с. 494); ...основной тон нашего молодняка – бодрость, а не уныние (с. 548); коррекции: ...и тут надо не зевать, а видеть потаенное (с. 547); Литература не предмет для наслаждения, но поле борьбы (с. 548). Использование глаголов и существительных в составе акротезы позволяет автору показать столкновение двух различных точек зрения на какое-либо явление действительности, охарактеризовать социальное положение субъекта, передать его восприятие событий и оценку реалий.
Прием антитезы реализуется словесными оппозициями глагол – глагол, существительное – существительное. Пары составляет глагольная лексика с дифференциальными семантическими признаками ‘активно действовать для достижения цели’ – ‘бездействовать’; ‘двигаться вверх’ – ‘двигаться вниз’; ‘связать какими-либо отношениями’ – ‘разлучить’; ‘окончиться’ – ‘продолжить прежнее существование’; ‘существовать’ – ‘прекратить существование’; ‘достичь цели’ – ‘не достичь цели’. Существительные составляют оппозиции на основе таких признаков, как ‘наличие какого-либо чувства’ – ‘отсутствие какого-либо чувства’; ‘нравственное суждение’ – ‘физическая сила’; ‘положительное чувство’ – ‘отрицательное чувство’; ‘субъект, действующий в союзе’ – ‘субъект, находящийся в состоянии вражды’; ‘субъект, имеющий законное право на власть’ – ‘не имеющий права’; ‘размеренное перемещение’ – ‘резкое перемещение’; ‘конкретное действие’ – ‘отвлеченное действие’. Данные противопоставления включают нейтральную глагольную и именную лексику и зафиксированную в современных словарях со стилистическими пометами разговорное, книжное, а также пары узуальных и окказиональных существительных: Когда уже и все расходились с совещания, Жуков пошел с каким-то встрявшим в него новым чувством – и одарения, и высокого примера, и зависти (с. 512). Окказиональное образование одаре-ние связано с глаголом передачи объекта одарить, то есть дать кому-либо что-либо в подарок, и имеет высокую стилистическую окраску, характеризуя эмоциональное состояние человека, испытывающего противоречивые чувства, обозначенные существительными положительной оценки ( пример ) и отрицательного отношения субъекта к окружающему миру ( зависть ).
В текстах отмечены единичные случаи реализации антитезы с помощью однокоренных и разнокоренных антонимов: Деньги соединили их – деньги и разъединили (с. 600); И тут – Емцова внезапно взнесло, как когда-то перед Хрущевым, или когда взялся выпускать лазерные гироскопы, – сразу страх и бесстрашие... (с. 582); Как бывает в жизни – беда к беде, а счастье к счастью, – тут и женился второй раз, Галина на 31 год моложе (с. 526); Или наш союзник, или враг! (с. 548). С большей частотностью автор включает в состав антитезы слова, которые в узусе не выражают противоположных значений: ...как в воздухе летел бы без крыльев – вот взмоешь или разобьешься (с. 582). В приведенном примере выделяется пара взмыть – разбиться. Глагол разбиться , будучи противопоставленным в контексте глаголу взмыть «стремительно взлететь» (МАС, т. I, с. 169), реализует значение «погибнуть при катастрофе, падении с высоты и т. п.» (там же, т. III, с. 585), в котором актуализируется семантика направленности вниз.
Оппозиции глаголов и существительных в составе антитезы реализуют отношения соединения ( Х и У ; и Х , и У ) и разделения ( Х или У ). В тексте рассказов данные языковые средства используются для утверждения противоположных явлений или указания на предел проявления отношений, совершения действий и способствуют передаче противоречивого психологического состояния субъекта: И тут – Емцова взнесло, как когда-то перед Хрущевым, или когда взялся выпускать лазерные гироскопы, – сразу страх и бесстрашие, как в воздухе летел бы без крыльев – вот взмоешь или разобьешься? – поднял руку просить слово, вверх и с наклоном к Устинову! (с. 582); созданию представления о непримиримых общественных позициях: Всю эту пильняковщину, ахматов-щину, всех этих серапиончиков и скорпи-ончиков надо или заставить равняться на пролетарскую литературу, или выметать железной метлой, примирения быть не может ; Никаких «попутчиков», – отбрасывал Шурик, – вообще не может существовать! Или наш союзник, или враг! (с. 548).
Противопоставленные существительные, выражающие отношения сравнения ( Х поверней У; Х не то что У ), употребляются в произведении для выражения оценки, утверждения одного из противопоставляемых явлений реальной действительности за счет сопоставления с другим: А вот сельская кредитная кооперация может оказаться путем куда поверней всемирного перескока к окончательному счастью (с. 491); Но Эк-тов все более укреплялся в том, что не требует никакого оправдания повседневная помощь крестьянину в его текущих, насущных нуждах, облегчение народной нужды в любой реальной форме – не то что в отвлекающей проповеди сельских батюшек и отвлекающей твердилке церковно-приходских школ (там же).
Глаголы в составе развернутой антитезы реализуют отношения противопоставления. На грамматическом уровне отмечен способ воплощения приема с помощью видовременных форм, по-разному выражающих отношения между действием и субъектом действия, имеющим статус подлежащего [19, с. 41–43]: Да взветрили тебя пыхом-духом – но перед ребятами нисколько не стеснительно, потому что в том нет никакой кри-вины: ты ничего не добивался, не хитрил, а вот – вынесло, само (с. 578). В приведенном контексте выявляется оппозиция ты… не добивался, не хитрил, а… вынесло , где предикат в двусоставной конструкции с семантикой определенного лица, репрезентируемой морфолого-синтаксическим способом по связи с личным местоимением 2 л. ед. ч. ты , противопоставлен глаголу в безличном употреблении, что способствует созданию представления о движении субъекта вверх в социальной иерархии, которое зависит будто бы не от его активных действий, а от благоприятного стечения обстоятельств. Употребление окказионального глагола взветрить в неопределенно-личной конструкции в сочетании с выражением пыхом-духом подчеркивает внезапность и быстроту продвижения героя по карьерной лестнице с чьей-либо помощью.
В рассказе «Абрикосовое варенье» повествование об уничтожении векового уклада жизни крестьянина А.И. Солженицын ведет от лица персонажа: Отвеку жили мы в селе Лебяжий Усад Курской губернии. Но положили отруб нашему понятию жизни: назвали нас кулаками за то, что крыша из оцинкованной жести, четыре лошади, три коровы и хороший сад при доме... А когда раскулачники вымогали от нас, где чего у нас спрятано, то иначе, вот, мол, лучшее дерево срубим… И порубали его (с. 556). В данном фрагменте выявляется антитеза от-веку мы жили – (они) положили отруб… понятию жизни, в которую включаются глагольно-адвербиальное сочетание (отвеку…жили) с семантикой длительного существования и глагольно-именное сочетание (положили отруб) с контекстуальным смыслом «прекратить, прервать, изменить». Первый член оппозиции является предикатом в двусоставной конструкции, в которой семантика определенного лица репрезентируется морфолого-синтаксическим способом по связи с личным местоимением 1 л. мн. ч. мы, и противопоставляется глаголу в неопределенно-личном употреблении. Выбирая такой способ языкового воплощения, автор будто становится на точку зрения говорящего (мы жили) и противопоставляет себя и тех, от чьего имени он выступает, представителям новой власти: (они) «положили отруб нашему понятию жизни». Передавая речь «раскулачников» (иначе, вот, мол, лучшее дерево срубим), не соединяя себя с теми, кто насильственно разрушает основы крестьянской жизни, автор использует глагольную форму 1 л. мн. ч. в односоставной определенно-личной конструкции (срубим). Неопределенно-личное употребление глагола порубали (И порубали его) представляет отстраненный, объективный взгляд автора на описываемые события. Анализ фрагмента свидетельствует о сопряжении в данном контексте трех семантических признаков глагола порубали: конкретного – ‘воздействие на неодушевленный объект’ (порубать дерево); обобщенного – ‘лишение жизни живого существа’ (порубать кулаков как класс); образного – ‘уничтожение’ (порубать «понятие жизни»). В семантике данной словоформы, связанной с действием, направленным на объект и на субъект, содержится авторская оценка реалий.
Актуализация лексико-семантических признаков глагола и существительного в рам- ках приема антитезы способствует изображению подневольного положения человека и отношения к нему власти, а также созданию образа уничтоженного дерева как символа крестьянского быта и бытия, уклада «самой нутряной России», к которой нет возврата.
Важнейшими стилистическими приемами воплощения контраста в «Двучастных рассказах» А.И. Солженицына являются акроте-за и антитеза, используемые писателем для выражения различного рода отношений – утверждения одной из противоположностей путем отрицания другой, соединения, разделения, сопоставления, противопоставления. Стержневыми элементами выражения понятий и явлений окружающей действительности, значимых для писателя, в составе названных приемов являются оппозиции глаголов и существительных, выделяемые на основе лексико-семантических, стилистических, семантико-словообразовательных дифференциальных признаков. Проанализированные языковые средства и приемы формируют различные способы реализации принципа контраста, определяющего стилистическую организацию произведений писателя.
Список литературы Стилистические приемы и средства выражения контраста в «Двучастных рассказах» А. И. Солженицына
- Далее при цитировании этого издания в круглых скобках указывается номер страницы.
- Балли, Ш. Французская стилистика/Ш. Бал-ли. -М.: Изд-во ин. лит. -394 с.
- Белопольская, Е. В. Роман А.И. Солженицына «В круге первом»: Проблематика и поэтика: автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.01/Белопольская Елена Владимировна. -Ростов н/Д, 1996. -180 с.
- Бочина, Т. Г. Контраст как речемыслитель-ная универсалия/Т. Г. Бочина//Исследования по русскому языку: сб. ст. к 70-летию проф. Эмилии Агафоновны Балалыкиной/под ред. В. М. Марко-ва. -Казань: Каз. гос. ун-т, 2007. -С. 47-56.
- Вершинин, И. В. Принцип дополнительно-сти в методологии литературоведения/И. В. Вершинин//Знание. Понимание. Умение. Филология. -2008. -№ 5. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www. Zpu-journal.ru/e-zpu/2008/5/Vershinin/#.
- Волошин, В. В. Принцип дополнительнос-ти и философия: проблема релевантности/В. В. Волошин//Вicник Донецького нацiонального унiверситету. Сер. Б, Гуманiтарнi науки. -Вип. 1. -2009. -С. 172-180.
- Выготский, Л. С. Психология искусства/Л. С. Выготский. -М.: Искусство, 1968. -575 с.
- Горовая, И. Г. Авторские окказионализмы в романе А.И. Солженицына «Красное колесо»/«Август четырнадцатого»: на материале сложных прилагательных: автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.01/Горовая Ирина Геннадьевна. -СПб., 2009. -23 с.
- Грановская, Л. В. Русский литературный язык в конце XIX и XX вв.: очерки/Л. В. Грановс-кая. -М.: Элпис, 2005. -448 с.
- Злобин, А. А. Семантика и функционирование слова свобода в произведениях А.И. Солженицы-на: автореф. дис.... канд. филол. наук: 10.02.01/Злобин Андрей Александрович. -Екатеринбург, 2007. -23 с.
- Лебедев, П. Еще раз о личности в истории («Двучастные рассказы» Солженицына)/П. Лебедев. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.proza.ru/2008/04/14/192.
- Лопушанская, С. П. Идиостиль Евгения Куль-кина в этнолингвистическом освещении/С. П. Лопу-шанская//Стрежень: науч. ежегодник. Вып. 3. -Волгоград, 2001. -С. 327-330.
- Лотман, Ю. М. О поэтах и поэзии/Ю. М. Лотман. -СПб.: Искусство-СПб, 1996. -848 с.
- Мельникова, С. В. О роли слов лексического потенциала в идиостиле А.И. Солженицына: (На примере лексико-словообразовательных диалектизмов «Русского словаря языкового расширения»)/С. В. Мельникова//А.И. Солженицын и русская культура. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. -С. 259-263.
- Новиков, Л. А. Русская антонимия и ее лексикографическое описание/Л. А. Новиков//Львов, М. Р. Словарь антонимов русского языка/М. Р. Львов. -М.: Рус. яз., 1985. -С. 5-30.
- Пшебинда, Г. Рассказы Солженицына по-польски/Г. Пшебинда//Новая Польша. -2001. -№ 7-8. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.novpol.ru.
- Русский словарь языкового расширения/сост. А. И. Солженицын. -3-е изд.-М.: Рус. путь, 2000. -280 с.
- Солженицын, А. И. Угодило зернышко про-меж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть четвертая (1987-1994)/А. И. Солженицын//Новый мир. -2003. -№ 11. -С. 32-97.
- Солженицын, А. И. Нобелевская лекция; Рассказы: 1959-1966; Крохотки: 1959-1969; Раковый корпус: повесть; Двучастные рассказы: 1993 -1998; Крохотки: 1996-1999/А. И. Солженицын. -М.: ОЛМА-ПРЕСС: Звездный мир, 2004. -672 с.
- Тупикова, Н. А. Формирование категории ин-персональности русского глагола/Н. А. Тупи-кова. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1998. -263 с.
- Тупикова, Н. А. Выражение ин-персональ-ности в языке произведений волгоградского писателя Е.А. Кулькина/Н. А. Тупикова//Стрежень: науч. ежегодник. -Вып. 3. -Волгоград: Издатель, 2001. -С. 331-333.
- Тупикова, Н. А. Развитие категории про-стонародности в русском литературном языке/Н. А. Тупикова//Русистика: сб. науч. тр. -Вып. 7. -Киев: ВПЦ «Киев. ун-т», 2007. -С. 8-12.
- Химик, В. В. Предисловие/В. В. Химик//Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. -СПб.: Норинт, 2004. -С. 5-12.
- БСЭ -Большая советская энциклопедия. В 30 т. Т. 13/гл. ред. А. М. Прохоров. -3-е изд. -М.: Сов. энцикл., 1973. -608 с.
- МАС -Словарь русского языка: в 4 т./гл. ред. А. П. Евгеньева. -М.: Рус. яз., 1981-1984.