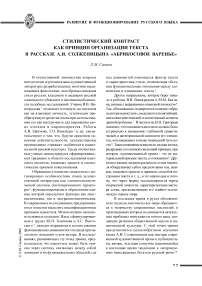Стилистический контраст как принцип организации текста в рассказе А. И. Солженицына «Абрикосовое варенье»
Автор: Савина Л.М.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14969212
IDR: 14969212
Текст статьи Стилистический контраст как принцип организации текста в рассказе А. И. Солженицына «Абрикосовое варенье»
В отечественной лингвистике вопросы методологии изучения языка художественной литературы разрабатывались многими выдающимися филологами, чьи образцы описания стиля русских классиков и шедевров русской словесности убеждают в несомненной ценности подобных исследований. Учение В.В. Виноградова 1 позволяет взглянуть на писателя как на языковую личность, эстетически преобразующую средства языка при использовании его как инструмента для выражения своих взглядов и мировосприятия. Работы А.И. Ефимова, Г.О. Винокура 2 и др. свидетельствуют о том, что, будучи средством освоения действительности, художественное произведение отражает особенности национальной речевой культуры. Труды отечественных ученых демонстрируют сформировавшуюся традицию в области исследования идио-стиля писателя, языковых средств и стилистических приемов повествования.
Обращение к понятию «идиостиль» мотивировано особенностями языка художественной литературы как «лингвостилистической системы синтезированного характе-ра»3, функционирование и образование единиц которой определяют факторы как лингвистические, так и экстралингвистические. В современных исследованиях предпринимаются попытки выделить квалификационные признаки идиостиля. Можно назвать несколько основных подходов. Идеи, сформулированные в трудах Ю.Н. Тынянова и Л.С. Выготского 4, находят выражение в использовании функционально-доминантного подхода при целостном описании стиля автора. В исследованиях, развивающих эту точку зрения, предполагается, что идиостиль может быть описан через систему связанных между собой доминант и их функциональных областей, где под доминантой понимается фактор текста и характеристика стиля, изменяющая обычные функциональные отношения между элементами и единицами текста 5.
Другое направление, которое берет начало в работах В.В. Виноградова и М.М. Бахтина, связано с выражением «языковой личности»6. Так, обоснованию подвергается понятие «образа автора идиостиля», выделяются понятийный, психолингвистический и когнитивный аспекты данной проблемы 7. В частности, В.П. Григорьев полагает, что описание идиостиля должно быть устремлено к выявлению глубинной семантической и категориальной связности его элементов, воплощающих в языке творческий путь поэта 8. Такое понимание идиостиля, на наш взгляд, раскрывает его основополагающий принцип, при котором «художественный прием – это не материальный признак текста, а отношение»9. Другими словами, индивидуальность стиля писателя обнаруживает себя в предпочтении тем, жанров, языковых средств и приемов, способов построения текста и т. д., и это важно еще и потому, что через форму эксплицируются черты творческой личности, характеризующие мастера слова, представляющие его идейно-эстетическую оценку мира.
В последнее время в русле обозначенного подхода лингвисты все чаще обращаются к творчеству современных писателей, в произведениях которых поднимаются актуальные проблемы минувшего и нового века, тенденции развития общественной мысли и национальной культуры. С этой точки зрения представляется целесообразным изучение языка А.И. Солженицына как мастера современной художественной прозы и публицистики, автора, чьи идеи созвучны наметившейся в настоящее время тенденции к «возрождению неиссякаемых богатств русской речи»10.
Значительное количество работ, посвященных творчеству А.И. Солженицына, носит литературоведческий характер. Исследователи характеризуют жанровое своеобразие и проблематику прозы писателя, обращаются к его эстетике, рассматривают произведения в автобиографическом аспекте 11. Однако язык и стиль А.И. Солженицына, на наш взгляд, еще не стали предметом серьезного внимания лингвистов, хотя имеются отдельные публикации 12, в которых, впрочем, исследуются преимущественно особенности словоупотребления и словотворчества писателя. Принципы и приемы, формирующие стиль А.И. Солженицына и выражающие его индивидуальность, практически не изучены. Между тем интерес писателя к жанру рассказа, с которого в 60-е годы началось его творчество, способствовал поиску принципов, позволяющих «в малой форме выразить многое»13. При этом, как свидетельствует материал, стилеобразующим принципом в названных произведениях является прием контраста, формирующий целостность текста.
В отечественном языкознании заложены традиции лингвостилистического анализа, основанного на психологических законах восприятия произведений искусства, в том числе с использованием символики стилистического контраста 14. В исследованиях современных ученых контраст рассматривается как способ имплицитного выражения оценки, семантикостилистическое средство реализации воздействующей и других функций в различных сферах общения 15.
В данной работе контраст понимается и определяется, вслед за А.В. Щербаковым, как «принцип линейно-синтагматической организации речевого произведения, заключающийся в резком противопоставлении различных элементов текста»16 и рассматривается в качестве ведущего принципа организации художественного текста, характеризующего основные черты идиостиля А.И. Солженицына. Целью исследования является определение функций контраста и его роли в формировании стиля писателя как мастера малого жанра. Источником для анализа языковых фактов избран рассказ «Абрикосовое варенье» из цикла «Двучастные рассказы»17. Поставленная цель мотивирует выявление в произведении ситуации контрас- та, которая обусловливается творческими принципами художника слова и реализуется посредством двучастной организации текста. Объект исследования составляют средства создания контраста в рамках высказывания, равного предложению (всего 387 синтаксических единиц), выявленные в процессе характеристики двух композиционных частей рассказа.
Анализ фрагментов на уровне основных универсалий текста (персонаж – событие – время – пространство) позволяет говорить о том, что в каждой из частей действие разворачивается согласно внутренней организации и соотносится с образом одного из персонажей, судьбы которых в общем сюжете произведения противопоставляются. Герой первой части рассказа – молодой еще человек по имени Федор Иванович, крестьянин по социальному происхождению. Раскулаченный советской властью, он находится в описываемое автором время в «тыловом ополчении» на стройках первых пятилеток. Персонаж второй части – знаменитый Писатель, симпатизирующий новой власти. Важным событием для Федора Ивановича становится его собственное письмо, адресованное Писателю и рассказывающее о том, что такое труд в СССР. Для героя второй части определяющим является диалог с профессором киноведения Василием Киприановичем о современной литературе и роли художников слова в построении нового общества. Пространство, на котором разворачивается действие, и время, в котором существуют герои, совпадают: Советская Россия 30-х годов ХХ века. Но пространство и время для Федора Ивановича – это еще и холодный барак на возведении Харьковского паровозостроительного завода; для Писателя – это «круглогодичная» дача, куда «не властна протянуться никакая жестокость жизни, никакие стуки – грюки пятилетки» (558).
Противопоставление двух композиционных частей рассказа углубляется с помощью различных способов повествования, к которым прибегает А.И. Солженицын. В первой части, представляющей собой в жанровом отношении письмо-монолог, повествование ведет рассказчик, обозначенный в тексте личными формами глаголов (нахожусь, напишу ), местоимениями 1-го лица ед. ч. ( я , мне ) и противопоставленный собеседнику, названному формами
Во второй части рассказа повествователем является автор, хотя точка зрения иногда смещается из авторской сферы в сферу второстепенного персонажа, несомненно, разделяющего взгляды А.И. Солженицына: «Профессор киноведения Василий Киприанович был позван к знаменитому Писателю на консультацию о формах и приемах киносценария... Приглашение такое было лестно, и профессор ехал в солнечный день в подмосковной электричке в отличном расположении... В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: талантлив он был богато... – но и какой же циник!» (559–560). В процессе развертывания текста читателю открываются различные «точки видения» (по терминологии А.И. Гор 0 ef аа 18 ): рассказчика и автора. Изложение от первого лица дает возможность изобразить художественную действительность «изнутри», субъективно 19, тогда как представление событий от третьего лица считается объективным. Принимая во внимание положение В.В. Виноградова о том, что динамика соотношения форм образа автора и образа рассказчика «непрестанно меняет функции словесных сфер рассказа, делает их семантически разнопланными»20, можно сделать вывод, что способы повествования в анализируемом тексте усиливают достоверность содержания произведения и углубляют контраст.
Противопоставленность частей рассказа служит пониманию идейно-художественного замысла А.И. Солженицына: в произведении сталкиваются точка зрения Писателя как отражение позиции власти и точка зрения крестьянина как отражение позиции народа, при этом первая воспринимается как официальная ложь, а вторая – как правда простого человека, то есть неофициальная, крестьянская точка зрения. Смысловые оппозиции власть – человек и ложь – правда отражают мировоззрение автора и находят выражение в приеме контраста, который реализуется средствами языка.
В центре повествования оказывается противопоставление «собеседник::говорящий», например, в письме крестьянина Федора Ивановича, полемизирующего с Писателем, который знаком ему только по некоторым статьям: «Вы пишете: фундамент счастья – наше коллективное хозяйство... Еще пишете: героизм становится жизненным явлением, цель и смысл жизни – труд в коммунистическом обществе. – На это скажу вам, что вещество того труда и того героизма – слякотное, заквашено на нашей изнемоге» (556).
В приведенном контексте противопоставляются участники речевого акта 21 : вы пишете – скажу [ вам ]. Члены оппозиции – личные глаголы ( пишете :: скажу ) – выражают отношение между действием и субъектом действия, имеющим статус подлежащего 22, разными способами: глагольная форма 2-го лица мн. ч. ( пишете ) и местоимение ( вы , вам ), служащее формой вежливого обращения в личной конструкции, противопоставляются глагольной форме 1-го лица ед. ч. в определенно-личном употреблении ( скажу ). В основе контраста на грамматическом уровне «лежит оппозиция значений и форм 2-го лица (собеседника) и 1-го лица (говоря-щего)»23, что способствует выявлению двух противоположных точек зрения на труд в социалистическом обществе – власти и простого человека. В анализируемом фрагменте контраст реализуется и лексико-семантическими средствами. Глагол графической передачи информации (СРГ, 295 24) пишете и глагол речевой деятельности (СРГ, 365) скажу употреблены в своих основных значениях: писать – «сообщать о чем-либо, высказывать что-либо письменно или печатно» (СРЯ, 2, 125), сказать – «выразить словесно (в устной речи) какую-либо мысль, мнение» (СРЯ, 3, 101). Таким образом, в рамках оппозиции в тексте рассказа оказываются противопоставленными как ложь и правда слово «печатное» и слово устное.
Рассматриваемый контекст включает пары контекстуальных антонимов, которые образуют ряд ключевых смысловых противопоставлений: фундамент – вещество, счастье – изнемога. Это способствует углублению приема контраста. Антонимическая пара фундамент – вещество имеет в контексте интегральный признак «основа того, на чем строится, возводится что-либо». Значение лексемы фундамент определяется как «основание (из камня, бетона и т. п.), служащее опорой для стен здания» и «база, опора чего-либо» (СРЯ, 4, 587). Слово вещество толкуется как «качественная сущность материи; то, из чего состоит физическое тело» (СРЯ, 1, 160). В данном выше фрагменте существительное фундамент, употребленное в переносном значении, оказывается в ряду: фундамент, героизм, труд, смысл жизни. Понятия, которые раскрываются этими словами, есть «камни» и «бетон» – самый прочный материал, на котором держится, согласно статьям известного Писателя, и «коллективное хозяйство», и «коммунистическое общество». Контекстуальный смысл существительного вещество раскрывается в предложении через признаки, названные в прилагательном слякотное и причастии заквашено, которые имеют, соответственно, значения «покрытый слякотью», то есть жидкой грязью (СРЯ, 3, 148) и «вызванный кислым брожением» (СРЯ, 1, 526). Таким образом, в данном контексте существительные фундамент и вещество являются контрастными на основании дифференциального признака: основа крепкая, прочная – основа зыбкая, неустойчивая. В составе высказывания данные контекстуальные антонимы используются с целью характеристики общественно-политического строя: автор стремится показать, что прочность фундамента нового государства вызывает недоверие – он оказывается зыбким, так как его «бетон» «заквашен» на «слякоти».
Антонимическая пара счастье – изнемо-га выделяется в контексте на основании противопоставления признаков: «достаточное наличие» жизненных сил – «отсутствие, ослаб-ление»25 жизненных сил. Труд человека в социалистическом обществе, по мнению Писателя, – это счастье, то есть «состояние высшего удовлетворения жизнью, чувство глубочайшего довольства и радости» (СРЯ, 3, 320). Крестьянин, со своей стороны, характеризует труд и героизм как «изнемогу». Названное существительное образовано от глагола «изнемочь», который имеет значение «потерять силы, дойти до изнеможения, ослабеть» (СРЯ, 1, 650). Определение дифференциальных признаков кон- текстуальных антонимов – труд как радость, довольство и удовлетворение жизнью (счастье) и труд как потеря сил, ослабление (изне-мога) – приводит к пониманию идеи фрагмента: приобщение к коллективному труду на самом деле оказывается эксплуатацией человека властью, которая низводит личность до состояния «вещества», не скупясь при этом на пафосные слова. Контраст, возникающий на основе индивидуально-авторского использования языковых средств, противопоставленных в контексте, в семантической перспективе фрагмента способствует приращению контекстуального смысла слов, выражений, образов, что позволяет писателю в символической, образной форме выразить идею произведения, а читателю – постичь авторский замысел.
Таким образом, рассматривая идиостиль как языковое предпочтение, а художественный прием как выражение отношения писателя к изображаемому, способ экспликации мировоззрения и мировосприятия творческой личности, можно утверждать, что стилеобразующим принципом организации текста в рассказе А.И. Солженицына «Абрикосовое варенье» является контраст. Выбор средств в этом произведении обусловлен идейно-эстетическими установками писателя, его стремлением вывести повествование за рамки частной судьбы героев, изобразить судьбу целого народа, отразить дух эпохи. Репрессированный, а затем гонимый властями, непримиримый по отношению к ним, убежденный, что его миссия – говорить от имени сотен тысяч бывших заключенных, автор рассказа делит мир на два противоположных лагеря: власть и человек. Контраст, поляризующий эти доминантные понятия, становится тем контрапунктом, который объединяет части произведения и языковые единицы в единое целое, эксплицирует две точки зрения на исторические события. Прием контраста дает возможность усложнить сюжет, показать значимость более глубокой идеи о необходимости суда над литературой 30-х годов за то, что она освободила себя от главного в эти десятилетия – отвернулась от правды жизни.
Используемый автором в анализируемом рассказе стилистический принцип контраста способствует реализации творческого кредо – «выражать Правду жизни во всей ее пол-ноте»26, что составляет основу всего творчества А.И. Солженицына.
Список литературы Стилистический контраст как принцип организации текста в рассказе А. И. Солженицына «Абрикосовое варенье»
- Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961.
- Ефимов А. И. Стилистика художественной речи. М., 1957;
- Винокур Г.О. О языке художественной литературы. М., 1991.
- Андрусенко В.И. Язык художественной литературы как лингвостилистическая система//Вопросы стилистики русского языка. Ульяновск, 1978. С. 52-58.
- Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. М., 1977;
- Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.
- Виноградов В.В. О языке художественной прозы. М., 1980. С. 162, 165-166;
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 254.
- Золян СТ. К проблеме описания поэтического идиолекта//Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 45. 1986. № 2. С. 138-148.
- Пищальникова В.А. Проблема идиостиля: Психолингвистический аспект. Барнаул, 1992;
- Леденева В.В. Идиостиль (к уточнению понятия)//Филологические науки. 2001. № 5. С. 36.
- Григорьев В.П. Грамматика идиостиля: В. Хлебников. М., 1983. С. 103.
- Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 36.
- Лопушанская СП. Речевая культура в этнолингвистическом освещении//Слово и текст в диалоге культур. М., 2000. С. 184.
- Газизова А. А. Конфликт временного и вечного в повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»//Литература в школе. 1997. № 4. С. 72-79;
- Мешков Ю. А. Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время. Екатеринбург, 1993;
- Потолков Ю. Прощание с Матреной: О рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор»//Литература. 1998. № 28. С. 12;
- Темпест Р. Геометрия ада: поэтика пространства и времени в повести «Один день Ивана Денисовича»/Пер. с англ. Н. Жутовской//Звезда. 1998. № 12. С. 128-135;
- Шумилин Д. А. Тема страдания и возрождения личности в «Архипелаге ГУЛАГ» А. Солженицына//Литература в школе. 1998. № 8. С. 36-43.
- Гордиенко ТВ. Особенности языка и стиля рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор»//Рус. словесность. 1997. № 3. С. 66-68;
- Слово пробивает себе дорогу: Сб. ст. и докл. об А. И. Солженицыне, 1962-1974/Вступ. ст. Л.П Чуковской. М., 1998.
- Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни//Новый мир. 1991. № 6. С. 12.
- Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968;
- Виноградов В.В. Наблюдение над стилем протопопа Аввакума//Он же. О языке художественной прозы. С. 19;
- Виноградов В.В. Стиль "Пиковой дамы»//Там же. С. 215;
- Виноградов В.В. Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский//Он же. Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 138;
- Виноградов В.В. О поэзии Анны Ахматовой//Там же. С. 389.
- Андреева Г.В. Языковое выражение контраста и его стилистические функции в художественной прозе. Л.,1984;
- Богина Т.Г. Стилистика контраста. Казань. 2002;
- Дмитриев А.Л. Антонимы в поэзии А.А. Ахматовой//Русский язык в школе. 1981. № 3. С. 73-78;
- Кузнецова А.В. Фигуры контраста и их функции в творчестве М.Ю. Лермонтова: Дис.... канд. филол. наук. М., 1998;
- Лиао Ли Йуех. Стилистика контраста в автобиографической прозе М. Горького и И. Бунина: Дис.... канд. филол. наук. СПб., 1999;
- Матвиевская Л.А. Стилистическое использование антонимов (на материале произведений М.Ю. Лермонтова). М., 1978.
- Культура русской речи: Энцикл. слов.-справ./Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. М., 2003. С. 691.
- Солженицын А.И. Абрикосовое варенье//Он же. Нобелевская лекция; Рассказы: 1959-1966;
- Солженицын А.И. Крохотки: 1959-1969;
- Солженицын А.И. Раковый корпус: Повесть;
- Солженицын А.И. Двучастные рассказы: 1993-1998;
- Крохотки: 1996-1999. М., 2004. С. 556-565. (Далее при цитировании текста в скобках указывается страница.)
- Горшков А.И. Русская стилистика. М., 1991. С. 193.
- Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971. С. 191.
- Бондарко А.В. Введение. Основания функциональной грамматики//Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987. С. 5-39.
- Тупикова Н.А. Формирование категории инперсональности русского глагола. Волгоград, 1998. С. 41-43.
- Юдин А.А. Категория лица в современном русском языке (семантика лица глагола). Рязань, 1976. С. 75.
- Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы/Под ред. проф. Л.Г. Бабенко. М., 1999. (= СРГ).
- Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп./АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1981-1984. (= СРЯ). Далее при ссылке указывается том и страница.
- Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974. С. 284-315.
- Солженицын А.И. Нобелевская лекция. С. 5.