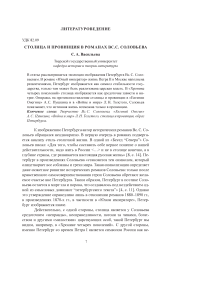Столица и провинция в романах Вс.С. Соловьева
Автор: Васильева Светлана Анатольевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается эволюция изображения Петербурга Вс.С. Соловьевым. В романе «Юный император» жизнь Петра II в Москве наполнена развлечениями, Петербург изображается как символ стабильности государства, только там может быть реализована царская власть. В «Хронике четырех поколений» столица изображается как средоточие зависти и интриг. Опираясь на противопоставление столицы и провинции в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина и в «Войне и мире» Л.Н. Толстого, Соловьев показывает, что истинная жизнь возможна только в провинции.
Творчество вс.с. соловьева, "евгений онегин" а.с. пушкина, "война и мир" л.н. толстого, столица и провинция, образ петербурга
Короткий адрес: https://sciup.org/146281573
IDR: 146281573 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Столица и провинция в романах Вс.С. Соловьева
К изображению Петербурга автор исторических романов Вс. С. Соловьев обращался неоднократно. В первую очередь в романах подвергается анализу стиль столичной жизни. В одной из «Бесед “Севера”» Соловьев писал: «Для того, чтобы составить себе верное понятие о нашей действительности, надо жить в России <…> и не в столице конечно, а в глубине страны, где развивается настоящая русская жизнь» [8, с. 14]. Петербург в произведениях Соловьева «становится тем символом, который олицетворяет все соблазны и грехи мира. Такая символизация определяет даже сюжетное развитие исторических романов Соловьева: только после нравственного самосовершенствования герои Соловьева обретают желаемое счастье вне Петербурга. Таким образом, Петербург в поэтике Соловьева остается в мире зла и порока, что создавалось под воздействием одной из смысловых доминант “петербургского текста”» [4, с. 11]. Однако это утверждение справедливо лишь в отношении романов 1880–1890 гг., в произведениях 1870-х гг., в частности в «Юном императоре», Петербург изображается иначе.
Действительно, с одной стороны, столица является у Соловьева средоточием «неправды», несправедливости, погони за чинами, богатством и другими «милостями» царствующих особ, такой Петербург мы видим, например, в «Хронике четырех поколений». С другой стороны, именно Петербург со времен Петра I является символом России как ве- ликой державы. В романе «Юный император» (1877) жизнь Петра II в Москве наполнена всевозможными развлечениями, молодой государь совсем забывает об обязанностях правителя. Князья Долгорукие, стремясь подавить волю Петра и самовластно управлять страной, убеждают, что «все это вздор и пустяки, будто дела стоят из-за пребывания в Москве, – отсюда точно так же, как из Петербурга, Россиею управлять можно» [10, с. 168]. Однако близкие к императору люди видят, как московская жизнь, точно омут, затягивает его. Перед смертью цесаревна Наталья Алексеевна обращается к Петру II со словами: «…образумься, вспомни, что ты государь. Оставь эти вечные веселья, не забывай дел, бывай в Совете, а главное… главное, сейчас, как меня похороните, уезжай в Петербург, в Петербург… Вот мой последний завет тебе, моя последняя просьба, мое последнее слово, в Петербург, скорей!.. Иначе и ты совсем погиб, и погибла Россия» [Там же, с. 156‒157].
Петербург в романе «Юный император» выступает как символ стабильности государства, только там может быть в полной мере реализована царская власть. Нельзя в то же время не отметить, что блеск и роскошь двора появляются именно в царствование Петра II и именно в Москве: «Никогда еще не видели московские жители ничего подобного, да и для петербургских вельмож все это было новинка. В царствование великого императора они не привыкли к подобной роскоши. Петр гнал всякий блеск. На его ассамблеях была простота. Главное заключалось в веселье, а больших трат не допускал император. <…> Теперь же было совсем не то, теперь каждый хотел перещеголять другого богатым костюмом; женщины сияли драгоценными каменьями, удивительными заграничными кружевами; появилось много яств и питей новых, вывезенных из-за границы» [Там же, с. 106‒107]. Но такие явления в Москве были временны и связаны лишь с присутствием императора и его приближенных (в контексте этого романа они свидетельствовали еще и о пагубности влияния на Петра II Долгоруких).
В последующих романах Соловьева («Хроника четырех поколений», «Волхвы», «Великий розенкрейцер») оформилось четкое противопоставление Москвы и Петербурга. Столичная жизнь, что традиционно для русской литературы XIX в., в «Хронике четырех поколений» настойчиво противопоставляется жизни в деревне, как в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина и в «Войне и мире» Л. Н. Толстого. Пушкин оказал значительное влияние на Соловьева, особенно оно сказалось в первом и втором томах «Хроники четырех поколений» – «Сергее Горбатове» и «Вольтерьянце». В «Старом доме» это влияние не столько непосредственное, сколько опосредованное – через «Войну и мир» Толстого, где пушкинские традиции играют весомую роль (подробнее о толстовских традициях в творчестве Вс. Соловьева см: [1; 2; 3]). Вслед за Пушкиным и Толстым
Соловьев изображает столицу как средоточие самых различных зол и пороков. Близкие Соловьеву герои тесно связаны с провинцией.
Столица в конце XVIII в. изображается Соловьевым как прекрасный европейский город: «На широких его улицах, еще недавно обнесенных пустырями, садами и огородами, теперь возвышались высокие обширные дома разбогатевших русских и иностранных торговцев. Рядом с этими домами высились дворцы вельмож, поражавшие своим великолепием» [9, т. 4, с. 147]. В романе «Сергей Горбатов» столица – «это город веселья и роскоши» [Там же, с. 148]. Когда Горбатов приезжает в Петербург, он слышит от других и повторяет сам: «Театры, балы, хорошенькие женщины!» [Там же, с. 85]. Герой попадает в водоворот веселья, праздности, интриг. Описание жизни Петербурга в первых романах «Хроники четырех поколений» напоминает распорядок дня Евгения Онегина: «Бывало, он еще в постеле: / К нему записочки несут. / Что? Приглашенья? В самом деле, / Три дома на вечер зовут: / Там будет бал, там детский праздник. / Куда ж поскачет мой проказник? / С кого начнет он? Все равно: / Везде поспеть немудрено» [6, с. 12 ]; «Проснется за полдень, и снова / До утра жизнь его готова, / Однообразна и пестра. / И завтра то же, что вчера» [Там же, с. 21]. Так же описывает столичную жизнь Соловьев: «Приходит вечер, и у Петербурга новые удовольствия: балы, всевозможные вечера, маскарады, пикники, театр. Ночь превращается в день, только с той разницей, что жизнь среди ночи еще деятельнее, еще разнообразнее» [9, т. 4, с. 148].
В среде придворных царят те же ценности, что и в кругу Анны Павловны Шерер и Курагиных в «Войне и мире» Л.Н. Толстого (подробнее см.: [2]), та же неразборчивость в способах достижения целей. Особенно ярко это демонстрируется Соловьевым в образе фаворита Екатерины II Платона Зубова. Попытки Горбатова заняться практическим делом, чтобы приносить пользу государству, вызывают улыбку Потемкина. В столице принят иной образ жизни. Только в полдень «чиновные лица, весело проведшие добрую половину ночи, поздно проснувшись, позавтракав и неспешно одевшись, отправляются к должностям своим», «и ведь все они служат государству, у каждого, судя по должностям их, должны же быть дела» [9, т. 4, с. 148]. Петербург у Соловьева является средоточием несправедливости, погони за чинами, богатством: «Петербург – придворный город, город чиновной знати, праздных богачей, приезжих иностранцев. Это город веселья и роскоши. Веселье и роскошь водились в нем и прежде, почти с самого основания, но в предыдущие царствования это все же была не та роскошь, не то веселье, которые завела великая Екатерина» [Там же].
Негативно оценивает петербургскую жизнь Павел Петрович: в столице, высказывая собственное мнение, человек будет «пророком в пустыне. Здесь, попав в нашу среду, вы с каждым днем будете убеждаться в величайшей испорченности нравов, здесь унижение не сознается»
[Там же, т. 5, с. 54]. Петербург для Павла Петровича является тем пространством, в котором невозможна простая, честная человеческая жизнь: «Здесь нет места трудовой жизни, роскошь кругом такая, как только в волшебных сказках» [Там же, т. 4, с. 164]. Сергей Горбатов в столице попадает в центр придворных интриг, после поездки в революционную Францию едва избегает следствия. Честность, искреннее стремление принести пользу государству не избавляют его от зависти и мести. Как и во многих текстах русской литературы, «провинция в сравнении с центром локализуется не столько в ином пространстве и времени, сколько в особом духовном измерении – в ней иная мера внутренней свободы» [5, с. 9]. Горбатов и Татьяна Пересветова поселяются в провинцию, так же как когда-то отец Горбатова.
Многие литераторы «через призму московско-петербургских противоречий <…> пытались разглядеть и понять противоречия развития всей России» [7, с. 3], противопоставляет две столицы и Соловьев. Москва в «Хронике четырех поколений» – «муравейник, там кипит трудовая жизнь, там черный люд работает всю черную работу». В Москве роскошные экипажи теряются среди обозов, нагруженных припасами, «нарядные фигуры пропадают среди черной толпы» [9, т. 4, с. 147]. Даже в праздничные дни, когда народ празднует и веселится, в этом народном веселье и праздновании поглощается «барское веселье». Соловьев, опираясь на пушкинские и толстовские концепции, подчеркивает и особую роль Москвы в победе над Наполеоном.
Таким образом, Москва в изображении Вс. Соловьева – «город русского народа, и народ здесь является во всей своей черноте и в своей красоте, и в своем безобразии, со всеми особенностями своих нравов и своего быта», Петербург – «придворный город, город чиновной знати, праздных богачей, приезжих иностранцев» [Там же]. Петербург изображается в романах Соловьева как красивый европейский город, и таким его создала Екатерина II, продолжившая дело, начатое Петром I. Однако Вс. Соловьев неоднократно высказывал убеждение, что истинная жизнь России протекает не в Петербурге, а в провинции. Именно провинция является хранительницей национального духа.
Список литературы Столица и провинция в романах Вс.С. Соловьева
- Васильева С.А. Вс.С. Соловьев о Толстом // Друзья и гости Ясной Поляны: Материалы науч. конф. Тула: Изд. дом "Ясная поляна", 2006. С. 109-123.
- Васильева С.А. Преддекабристская эпоха в изображении Л.Н. Толстого и Вс.С. Соловьева // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2005. № 2. С. 20-24.
- Васильева С.А. Творчество Л.Н. Толстого в восприятии Вс.С. Соловьева // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11. №4. С. 173-180.
- Лексина А.В. Историческая проза Вс.С. Соловьева (генезис и поэтика): автореф. дис.... канд. филол. н.: 10.011.01 / А.В. Лексина; Коломенский пед. ин-т. Коломна, 1999. 25 с.
- Отставнова И.Б. Пространство российской провинции: "Жизнесмыслы": автореф. дис.. канд. культурологии: 24.00.01 /И.Б. Отставнова; Мордовский гос. ун-т. Саранск, 2006. 20 с.
- Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 4. М.: Худож. лит, 1975. С. 5-180.
- Смирнов С.Б. Взаимодействие Москвы и Петербурга в развитии культуры России в 18-20 вв.: автореф. дис.... докт. культурологии: 24.00.01 / С.Б. Смирнов; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. СПб., 2007. 41 с.
- Соловьев Вс.С. Беседы "Севера". I. Наша беда// Север. 1888. № 1. С. 12-15.
- Соловьев Вс.С. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Бастион, 1996.
- Соловьев Вс.С. Юный император. М.: Худож. лит., 1993. 430 с.