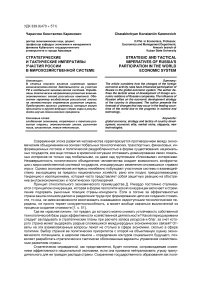Стратегические и тактические императивы участия России в мирохозяйственной системе
Автор: Чарахчян Константин Каренович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье описано влияние изменения правил внешнеэкономической деятельности на участие РФ в глобальной экономической системе. Определены тактические направления развития внешнеэкономических связей российских компаний. Обозначен характер воздействия российской элиты на экономическую стратегию развития страны. Представлен прогноз изменений, которые могут произойти в группе ведущих стран мира в результате научно-технического прогресса.
Глобальная экономика, стратегия и тактика развития страны, экономическая элита, рыночная ниша, олигополия, новые технологии
Короткий адрес: https://sciup.org/14938611
IDR: 14938611 | УДК: 339.9(470
Текст научной статьи Стратегические и тактические императивы участия России в мирохозяйственной системе
Современная эпоха развития человечества характеризуется противоречием между экономическим объединением на основе глобальных технологических, транспортных, финансовых, информационных потоков и политической раздробленностью в форме существования национальных государств, все еще готовых в кризисной ситуации отстаивать доминирование своих локальных интересов не только над глобальными, но даже над групповыми «блоковыми» интересами. Незавершенность политического объединения человечества создает возможность конфронтации с мирохозяйственной системой государств, инициирующих изменения сложившихся «правил игры». Однако экономические интересы неизбежно побуждают участников системы к взаимодействию, выходящему за пределы национальных хозяйств, рано или поздно преодолевающему тенденцию к изоляционизму, который часто представляет собой защитную реакцию на обострение внутриэкономических и политических противоречий.
Принцип относительного экономического преимущества Д. Рикардо постоянно сталкивается с принципом конкуренции, которая в форме геополитической конкуренции включает и стремление подорвать рыночные позиции страны-конкурента. Если в погоне за эффективностью страна зашла слишком далеко в разделении труда при формировании цепочек создания стоимости, то она, не имея возможности восстановить оказавшиеся недоступными технологические переделы, не просто теряет конкурентоспособность, а может вообще оказаться выключенной из процесса создания стоимости [1, с. 51].
Где же «красная линия», тот предел, до которого можно снижать устойчивость собственной технологической базы ради эффективности хозяйственной деятельности? Какой период времени следует закладывать в стратегические планы при расчете запаса ресурсов и благ, за счет которого страна может выдержать разрыв сложившихся международных экономических связей? Ответы на эти взаимосвязанные вопросы лежат не столько в сфере экономики, сколько в сфере политики. Выбор страной ее политических приоритетов с опорой на объективную оценку экономического потенциала, в широком смысле – определение контуров социального будущего, позволяет разработать стратегически и тактически обоснованные варианты управления хозяйственным развитием страны.
Стратегически оправданной, как представляется, будет политика, сопровождаемая снижением эффективности национальной экономики, если она призвана нейтрализовать угрозу принудительного для ее граждан распада страны. Сохранение государственного образования как поли- тического и хозяйственного субъекта может создать условия для того, чтобы окупить в долгосрочной перспективе весь объем выросших экономических и социальных издержек. Поэтому следует учитывать совокупность расходов на сохранение государства-субъекта, то есть «бремя» воспроизводства национального государства. Эти расходы необходимо сопоставлять с выгодами от поддержания государства для домохозяйств и фирм, выражающимися в конечном счете в благополучии членов общества. Благополучие домохозяйств отражает удовлетворенность личных потребностей в сравнении с условиями собственного развития, имеющимися у каждого из них [2, с. 259].
Путем тактических маневров во внешнеэкономической сфере деятельности частные и государственные компании способны получить больший, чем ранее, экономический эффект от участия в международном разделении труда. Представляется, что сложившийся механизм трансформации корпоративных результатов хозяйственной деятельности в общественные результаты нуждается в существенном преобразовании.
Одним из способов использования государственного механизма для достижения народно-хозяйственного успеха может служить направление общественных ресурсов на поддержку конкурентоспособности национальных компаний на мировом рынке. Неравномерность и турбулентность экономического развития открывает своеобразные ниши мирового рынка, в которые могут внедряться компании различных стран, в том числе и не относящихся к лидерам мирового хозяйства. Даже отдельные территории, регионы могут добиться успешного развития, получив вход в данные ниши.
Однако деятельность в глобальном пространстве, выгодная для отдельного участника или группы таковых, может наносить ущерб остальным субъектам, оставшимся в традиционной национальной структуре экономических взаимосвязей. Поэтому следует учитывать разнообразные проявления несовпадения экономической эффективности для отдельно взятой компании (или группы компаний) и эффективности в масштабе национальной экономики. На темпах экономического роста корпораций в большей степени будет сказываться не фактор принадлежности к экономике той или иной страны или интегративной группировки, а фактор принадлежности к определенной отрасли. Иными словами, в экономическом аспекте отраслевая принадлежность компании уже становится более важной, чем территориальная. Развитие отрасли в масштабе глобальной экономики окажет решающее влияние на развитие предприятий, относящихся к данной отрасли, где бы они ни базировались.
Продвигать одну, даже сильную, «фигуру» на доске всемирной экономической игры целесообразно в рамках общей стратегии, учитывающей положение всех «фигур». Кроме того, фигуры-компании, поддерживаемые государством, могут навязывать свои корпоративные интересы акторам государственной политики и достаточно успешно маскировать эти интересы под общенациональные. Поэтому представляется полезным для развития хозяйства страны использовать присваиваемую через механизм налогообложения часть дохода экспортоориентированных компаний целевым образом, направляя эту часть на инвестиции в заранее определенные отрасли (или даже конкретную группу компаний), признанные приоритетными для социально-экономического развития страны. Стратегически важными направлениями инвестиционной деятельности в России выступают создание современных транспортно-логистических систем высокоскоростных автострад и скоростных железных дорог, «экономика знаний», объединяющая НИОКР, образование, информационные технологии, биотехнологии и здравоохранение [3, с. 9].
Выделение подобных приоритетов выходит за рамки традиционной промышленной политики и соответствует парадигме стратегического планирования национального хозяйства, использующего возможности регулируемой рыночной экономической системы. Государству целесообразно оказывать реальную поддержку предприятиям последнего передела, замыкающим цепочку создания стоимости, поскольку такая продукция, во-первых, обладает повышенной конкурентоспособностью на мировых рынках; во-вторых, стимулирует инновационные факторы роста; в-третьих, добавляет рабочие места на предприятиях предыдущих переделов, обычно базирующихся на территории России.
Стратегическое планирование основывается на выборе одной из возможных стратегий экономического поведения. В глобализированной экономике перспективными представляются три стратегии рыночного поведения для хозяйствующих субъектов – корпораций, регионов, государств. Первая стратегия заключается в динамичном приспособлении к изменчивой геополитической ситуации, лавировании между ведущими игроками отраслевого и мирового рынка, перемене партнеров по экономическим связям. Сохраняющаяся неравномерность экономического развития стран позволяет переходить от ниши к нише, то есть находить все новые участки рынка, которые данный товаропроизводитель может удовлетворить наилучшим образом в данный период времени.
Определенный положительный эффект в этом аспекте демонстрирует современный экономический кризис в России. Российские компании этим кризисом «выдавливаются» на внешние рынки и становятся глобальными игроками [4, с. 87]. Однако подобная стратегия требует высокого искусства внешнеэкономической политики, четкой координации действий государства и фирм, гибкой производственной структуры национальной экономики. Необходима согласованность промышленной, экспортной и антимонопольной политики. В настоящее время каждой из них в нашей стране занимается отдельное ведомство, отсутствует надлежащая координация их деятельности.
Вместе с тем данной стратегии присуща повышенная неопределенность для будущей хозяйственной деятельности экономических субъектов. Соответственно, возрастает цена ошибки в принятии решений, увеличивается риск потери прибыли.
Вторая стратегия заключается в долговременной ориентации на определенного партнера, удовлетворении не только текущих, но и будущих его потребностей. В этом случае возникает своеобразный симбиоз национальных хозяйств, процветание ведущего участника отношений становится своеобразным гарантом его спроса на товары и услуги поставщика. Поставщик получает надежный и достаточно емкий рынок сбыта, что позволяет с уверенностью смотреть в будущее и осуществлять долгосрочные инвестиционные проекты и социальные программы. Обе участвующие стороны получают конкретную выгоду от данного экономического симбиоза. Применение этой стратегии приводит к группировке компаний страны-поставщика вокруг компаний страны-потребителя.
Например, целый ряд региональных и отраслевых комплексов стран СНГ, включая Россию, уже занят обеспечением потребностей предприятий Китая, рыночные перспективы этих комплексов зависят от темпов экономического роста КНР. Усилия государства по созданию территорий опережающего развития, в рамках которых инвесторы получают налоговые каникулы по налогу на прибыль, имущество, землю, сниженные ставки налога на труд, льготные тарифы на энергоносители, помощь в подключении к коммуникациям, создают благоприятные возможности для развития производства товаров на экспорт. С учетом снизившейся заработной платы в долларовом выражении российские товары, выпускаемые на территориях опережающего развития, будут значительно дешевле по себестоимости по сравнению даже с китайскими.
Наконец, третья стратегия сводится к действиям «на опережение». Применяющий ее экономический субъект должен с высокой степенью точности прогнозировать конъюнктуру мировой экономики в целом и ее отдельных звеньев в частности. При данной стратегии важно отыскать те рынки, которые еще только формируются, и подготовиться удовлетворять потребности, которые еще лишь созревают. Экономическому субъекту, применяющему такую стратегию, необходимо, опережая конкурентов, предлагать рынку те товары и услуги, которые пока не может произвести никто в сколько-нибудь ощутимых для потребителей масштабах. Рыночная ниша вначале представляет собой будущих потребителей товара-новинки, в дальнейшем ее границы все более расширяются.
Выгоды от включения во всеобщий поток информации, услуг, товаров, ресурсов, технологий достаточно привлекательны. Поэтому потребность в налаживании приемлемых для различных стран условий функционирования мировой экономики рано или поздно вызовет создание системы экономических институтов, которые обеспечат получение этих выгод самому широкому кругу участников разного уровня, независимо от их расположения на нашей планете. Это создаст объективную необходимость политического объединения стран (в той или иной форме), неизбежной ценой которого выступит отказ государств от реального суверенитета.
Широкомасштабные преобразования в экономической сфере не могут происходить вне поля интересов ее политико-экономической элиты. В полной мере это относится и к России. Поведение элиты нашей страны на протяжении последних десятилетий позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, элита склонна выдавать свои групповые экономические интересы за общенародные (что характерно для элит большинства стран мира). Такая «мимикрия» позволяет сохранять социальные условия своего господства, опираясь на силу государства как субъекта хозяйственной и политической деятельности. Однако существует принципиальная несводимость интересов государства к интересам его граждан. Это обусловлено наличием у государства имманентных интересов, которые отражают интересы нации как совокупности прошлых, нынешних и будущих поколений и не сводимы к интересам фиксированного множества ныне живущих граждан [5, с. 128]. Интересы популяции - это своеобразный временной аспект экономических интересов государства. Кроме того, государство в наибольшей степени отражает групповые интересы правящей элиты, которая формирует государственный механизм и аппарат управления им, оказывающий сильнейшее влияние на хозяйственные процессы. В этом проявляется своеобразный пространственный аспект экономических интересов государства.
Во-вторых, интересы российской элиты, сформировавшейся главным образом из нуворишей, ориентированы на краткосрочные цели. Этому способствует укоренившаяся привычка хранить свои «резервные ценности» и личные счета за пределами России, чтобы снизить риски их утраты и иметь возможность в любой подходящий момент эмигрировать, сохранив значительную часть накопленных богатств. Свои краткосрочные интересы элита успешно маскирует под долгосрочные интересы российского общества, используя российскую традицию веры в «светлое будущее».
В-третьих, субъекты российской элиты ориентируются на интеграцию в элиту западную, однако пытаются добиться этого на своих условиях. Фактически происходит своеобразный торг с небольшими шансами на успех для представителей российского истеблишмента. Можно предположить, что в результате этого торга российская элита рано или поздно согласится отказаться от дальнейших попыток долгосрочного противодействия правилам, утвержденным мировой элитой-гегемоном, ради получения некоторых преференций в международных экономических связях.
Достижение компромисса с «пулом» экономически развитых стран сделает некоторые ниши мирового рынка доступными для отечественных компаний. В результате откроются перспективные тактические направления участия российских фирм во внешнеэкономических отношениях. Например, станет возможно встроиться в цепи поставок продукции, требующей среднего уровня квалификации работников и предприятий, взаимодействующих с европейскими и азиатскими центрами производства конечной продукции. Можно будет опереться на опыт кооперации российских фирм с западноевропейскими компаниями в выпуске самолетов «Эрбас». Снятие экономических санкций и укрепление доверительных политических связей позволит уменьшить риски инвестиционной деятельности, будет стимулировать привлечение в российскую экономику глобальных компаний, в том числе и розничных торговых сетей. Они могут способствовать возобновлению участия российских производителей в переработке полуфабрикатов из-за рубежа и реализации российской продукции в рамках всемирно известных брендов.
Российские производственные и торговые фирмы могли бы воспользоваться «окном возможностей» и занять скромную, но устойчивую и обладающую перспективой роста нишу, постепенно проникая в сферу высокотехнологичной продукции, пусть и под чужими торговыми марками. Можно вспомнить, что такой прием использовали в 1970-1980 гг. советские государственные предприятия, поставлявшие некоторые детали европейским компаниям, выпускавшим потребительские товары, включая бытовую технику.
Встраивание российских фирм в цепочки создания ценности потребует перенести акцент с производственных процессов на маркетинг и дизайн [6, с. 32]. К сожалению, на данных направлениях внедрения на рынок у нынешних отечественных компаний нет достаточного опыта и «прорывных достижений». Однако возможно освоить лучший зарубежный опыт, возродить российские традиции создания образцовых изделий.
Вместе с тем надо учесть, что «успех» поиска политического и экономического компромисса для российской стороны будет зависеть, как представляется, не столько от нее самой, сколько от стремления противоположной стороны соблюсти и на этот раз традицию «добивания» стратегического противника. Скорее всего, российская элита согласится на роль «квазиколони-альной администрации», обеспечивая поддержание таких политических и экономических условий в стране, при которых Россия не сможет в будущем представлять угрозы геополитическому и хозяйственному господству Запада, опирающегося на транснациональные компании и мировую финансовую систему.
Однако и при развитии событий по этому сценарию Россия может добиться занятия некоторых ниш в мировой экономической системе. К ним могут быть отнесены потребители продукции тяжелого и энергетического машиностроения, изделий полупроводниковой квантовой электроники и т. п. Так, по расчетам ИНП РАН ценовая конкурентоспособность усредненной единицы продукции российских производителей выше, чем у западных производителей, более чем на 25 % [7, с. 258]. Россия способна сохранить нишу на мировом рынке зерна как устойчивый производитель этого важнейшего продукта.
Останется, по-видимому, открытым канал прямых межгосударственных соглашений по поставкам отдельных товаров и оказанию технических и строительных услуг. Российским ведомствам придется находить «бреши» в барьере из санкций, бойкотов, эмбарго и внедряться в них не столько для получения выгоды в кратко- или среднесрочной перспективе, сколько ради сохранения внешнеэкономических контактов и доступа к высоким технологиям. Здесь будет весьма важен и обучающий эффект, поскольку к российским специалистам и фирмам будут предъявляться более высокие требования.
Настоятельной необходимостью для использования российскими фирмами открывшихся ниш мирового рынка выступает усиление логистического направления. Потенциал экспорта, обусловленный девальвацией рубля, сохранится в течение нескольких лет. Однако реализация этого потенциала часто блокируется высокими затратами средств и времени на логистику товаров, производимых для зарубежных потребителей. Транспортная инфраструктура становится стратегиче- ским направлением экспансии мировых экспортеров, прежде всего Китая. Транспортным коридором для китайских компаний должен стать «новый шелковый путь», проект которого активно реализуется китайским правительством с привлечением государственного и частного бизнеса ряда стран Азии. Для России реальным является «выход» в Азиатско-Тихоокеанский район не только через морские дальневосточные порты, но и через сухопутные границы посредством мостовых переходов, «расшивающих узкие места» автомобильных и железнодорожных грузовых потоков.
Каждый из отмеченных вариантов взаимодействия российской экономики с зарубежными экономическими системами, при всей их целесообразности, тем не менее имеет тактический характер, определяемый конъюнктурой мирохозяйственных связей. Тактика продвижения вперед методом «прощупывания» среды, использования открывшихся «окон возможностей», быстрого применения обнаружившихся резервов ресурсов приносит положительный для страны результат, если не противоречит некоторым стратегическим императивам межсубъектных мирохозяйственных отношений. Одним из таких императивов выступает контроль за экономическими ресурсами страны.
Стремление субъектов экономики к контролю над ресурсами может рассматриваться как рациональное, если выгоды от контроля превышают расходы на его осуществление. Снижению этих расходов способствуют доверительные отношения между участниками хозяйственных процессов. Передачу контроля над ресурсами путем установления доверия в сообществе хозяйствующих субъектов Дж. Коулмен рассматривает как форму их рационального поведения [8].
В России одной из первоочередных задач институциональных преобразований выступает восстановление доверительных и предсказуемых отношений между субъектами экономики, прежде всего частными и государственными фирмами и организациями. Опора государственной политики на полсотни крупнейших (по отечественным меркам) компаний не способна оздоровить деловой климат в стране, поскольку противопоставляет их остальным экономическим субъектам. Малый, средний и большая часть крупного бизнеса оказались незащищенными от неожиданных и слабо обоснованных изменений экономической политики Российского государства.
Высокие репутационные и политические риски сделок с участием частных и государственных организаций существенно снижают их привлекательность для зарубежных стратегических инвесторов и правительственных организаций. Деловое сотрудничество с российскими хозяйствующими субъектами пока не служит для зарубежных частных фирм и правительств национальных государств адекватным инструментом решения крупных, имеющих для них приоритетное значение проблем. Для России представляется необходимым принятие длительных и последовательных мер государством и бизнесом по выстраиванию устойчивых отношений, опирающихся на доверие обеих сторон: российской и зарубежной.
Развитие экономических взаимосвязей между хозяйствующими субъектами разных стран способствует их взаимной зависимости, вынуждает к созданию в долгосрочном периоде устойчивой межгосударственной конструкции. Однако эта зависимость имеет асимметричный характер, что в краткосрочном периоде создает возможность некоторых преимуществ одной из участвующих во взаимоотношениях сторон. Поиск таких преимуществ в экономической и геополитической сферах неизбежен для компаний и правительств национальных государств. Научно-технический прогресс создает «поле возможностей» для ускоренного развития отдельных участников мирохозяйственной системы и их экономической экспансии.
Мировая экономика, если использовать модель, уподобляющую ее некоему глобальному рынку, колеблется между олигополией и монополистической конкуренцией. Инновации разрушают устоявшиеся олигополистические взаимосвязи и открывают путь на глобальный рынок «новичкам». «Семерка-восьмерка» соответствовала олигополистической форме рыночных отношений, «двадцатка» будет соответствовать отношениям монополистической конкуренции.
Однако процесс массового внедрения инноваций в жизнь общества имеет циклический характер. Обновление основного капитала фирмами целого ряда государств, опиравшихся на привлеченные из-за рубежа передовые технологии, специалистов и дешевые капиталы, позволило расширить круг участников мирового рынка, «имеющих вес». Это отразилось в изменениях «пула» ведущих государств, чья политика принимается во внимание остальными акторами глобальной хозяйственной деятельности. Стал реальностью переход к принятию решений в формате «двадцатки» государств. Мир активно использует информационные технологии, на очереди внедрение разработанных инноваций в биотехнологической сфере.
Страны, извлекающие доходы от новаций в области био- и нанотехнологий, способные создать условия для их генерации и превращения в коммерческие проекты, обеспечат себе достаточно устойчивое конкурентное преимущество и вырвутся вперед по сравнению с «двадцаткой» в целом.
В результате, как представляется, в перспективе возникнет новый вариант глобальной олигополии, включающий 8-10 участников (своеобразная «десятка» ведущих государств и межгосу- дарственных объединений). Россия должна определиться со своим местом в этой новой глобальной мирохозяйственной структуре. Это место потребуется сначала занять, а затем и закрепить, реализуя последовательный, успешный и понятный контрагентам экономический и политический курс. Выбранный курс потребуется проводить через деятельность и правительственных организаций, и компаний, контролируемых частыми лицами. Поиск ренты как основное содержание хозяйственной деятельности российской элиты вступит в противоречие с поиском избыточной прибавочной стоимости (по терминологии Маркса), характерным для технологически передовых компаний-товаропроизводителей. В конечном счете российская элита будет вынуждена изменить свое хозяйственное поведение.
Чтобы добиться минимального для долгосрочных и устойчивых экономических отношений уровня доверия к действиям отечественных фирм на внутреннем и мировом рынках, российской элите потребуется перестать быть олигархией. Ее реально возможное влияние на глобальные правила экономической «игры» заключается в прочном внедрении в «десятку» ведущих политико-экономических элит мира и занятии в ней своего места, определяемого интегральной оценкой хозяйственного, политического, военного, инновационного и информационного влияния страны на мирохозяйственные процессы.
Ссылки:
-
1. Алексеев А. Создание инновационной экономики: государство начинает? // Экономист. 2015. № 6. С. 48–56.
-
2. Бондаренко И.А., Мещеряков Д.А. Домохозяйства в системе отношений экономических субъектов России. М., 2015.
-
3. Аганбегян А.Г. Размышления о финансовом форсаже (по мотивам книги «Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика») // Деньги и кредит. 2015. № 8. С. 5–10.
-
4. Гурова Т. Без мостов экспортный потенциал нереализуем // Эксперт. 2015. № 40 (959). С. 83–87.
-
5. Клейнер Г. Ритмы эволюционной экономики // Вопросы экономики. 2014. № 4. С. 123–136.
-
6. Радаев В. Можно ли спасти российскую легкую промышленность? // Там же. С. 17–36.
-
7. Перспективы развития экономики России: прогноз до 2030 года / под ред. В.В. Ивантера и М.Ю. Ксенофонтова. М., 2013. 408 с.
-
8. Коулмен Дж. Экономическая социология с точки зрения рационального выбора // Экономическая социология. 2004. Т. 5, № 3. С. 35–44.
348 с.
Список литературы Стратегические и тактические императивы участия России в мирохозяйственной системе
- Алексеев А. Создание инновационной экономики: государство начинает?//Экономист. 2015. № 6. С. 48-56.
- Бондаренко И.А., Мещеряков Д.А. Домохозяйства в системе отношений экономических субъектов России. М., 2015. 348 с.
- Аганбегян А.Г. Размышления о финансовом форсаже (по мотивам книги «Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика»)//Деньги и кредит. 2015. № 8. С. 5-10.
- Гурова Т. Без мостов экспортный потенциал нереализуем//Эксперт. 2015. № 40 (959). С. 83-87.
- Клейнер Г. Ритмы эволюционной экономики//Вопросы экономики. 2014. № 4. С. 123-136.
- Радаев В. Можно ли спасти российскую легкую промышленность?//Там же. С. 17-36.
- Перспективы развития экономики России: прогноз до 2030 года/под ред. В.В. Ивантера и М.Ю. Ксенофонтова. М., 2013. 408 с.
- Коулмен Дж. Экономическая социология с точки зрения рационального выбора//Экономическая социология. 2004. Т. 5, № 3. С. 35-44.