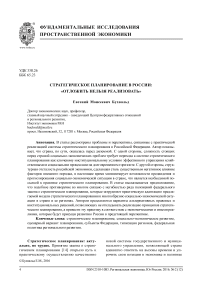Стратегическое планирование в России: "отложить нельзя реализовать"
Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики
Статья в выпуске: 2 (12), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены проблемы и перспективы, связанные с практической реализацией системы стратегического планирования в Российской Федерации. Автор показывает, что страна, по сути, оказалась перед дилеммой. С одной стороны, сложность стоящих перед страной социально-экономических проблем требует перехода к системе стратегического планирования как ключевому институциональному условию эффективного управления хозяйственными и социальными процессами на долговременном горизонте. С другой стороны, структурная отсталость российской экономики, сделавшая столь существенным негативное влияние факторов внешнего порядка, в настоящее время минимизирует возможности предвидения и прогнозирования социально-экономической ситуации в стране, что является необходимой посылкой к практике стратегического планирования. В статье высказывается предположение, что подобное противоречие во многом связано с негибкостью ряда положений федерального закона о стратегическом планировании, которые затрудняют практическую адаптацию предлагаемой модели стратегического планирования к многообразию социально-экономической ситуации в стране и ее регионах. Автором предлагаются варианты альтернативных правовых и институциональных решений, позволяющих не откладывать реализацию принципов стратегического планирования, а привести эту практику в соответствие с экономическими и иными реалиями, которые будут присущи развитию России в предстоящей перспективе.
Стратегическое планирование, социально-экономическое развитие, сценарный вариант планирования, субъекты федерации, типизация регионов, федеральная политика регионального развития
Короткий адрес: https://sciup.org/149131120
IDR: 149131120 | УДК: 338.26
Текст научной статьи Стратегическое планирование в России: "отложить нельзя реализовать"
Стратегическое планирование: актуально, но трудно. Принятие закона о стратегическом планировании [14] открыло путь к практическому осуществлению качественно © Бухвальд Е.М., 2016
новой системы государственного и муниципального управления, позволяющей стране адекватно ответить на вызовы времени и упрочить свои позиции в экономике и политике современного мира. Речь идет о системе управления, способной обеспечить российской экономике тренд устойчивого, инновационноориентированного развития, высокую конкурентоспособность, а также широкий спектр достижений социального характера.
Закон на стадии проектирования прошел весьма длительный, даже по российским меркам, путь доработок, дополнений и уточнений. В одних случаях это действительно привело к качественному улучшению данного законодательного документа. Так, в ходе этих уточнений наименование законопроекта и его фактическое содержание избавились от целого ряда излишних понятийных усложнений типа «стратегическое прогнозирование» и даже «стратегический контроль». В документе ставятся акценты на понимание стратегического планирования как системного процесса, включающего все основные стадии принятия управленческих решений, их документального оформления и практической реализации, контроля, а также различные временные горизонты плана. В законе закреплены единые правовые и институциональные основы стратегического планирования и программно-целевого управления социально-экономическим развитием страны на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
В ходе ряда последовательных корректировок регулятивные рамки законопроекта были заметно децентрализованы. Первоначальные версии законопроекта в основном описывали задачи и инструменты стратегического планирования, присущие федеральному звену управления. В окончательном варианте закона более четко просматривается идея «вертикали» стратегического планирования с позиционированием в этой вертикали роли и места субфедерального (то есть регионального и муниципального) звена управления. Именно по этой причине из названия законопроекта было изъято первоначально имевшееся в нем определение «государственное стратегическое планирование», поскольку муниципальное звено управления, которое ныне по закону также является полноправным участником такого планирования, к государственной власти, согласно Конституции РФ, не относится.
Наконец, в результате последовательных доработок в законе удалось в полной мере отразить взаимосвязь и взаимообусловленность отраслевого и пространственного срезов стратегического планирования и предусмотренных в данном случае ключевых документов. Закон утвер- ждает системность государственных программ, нацеленных на развитие ключевых отраслей и отраслевых комплексов российской экономики, а также на социально-экономическое развитие отдельных территорий (регионов и макрорегионов), имеющих стратегически важное значение для современной России.
Тем не менее данный законодательный акт пока сохраняет в себе пробелы как правового, так и институционального и даже процедурного характера. Во многом это было неизбежно для такого пионерного направления нашего законотворчества [5, с. 29–30]. В числе этих пробелов – отсутствие во многих случаях четкого указания на экономико-правовые механизмы и конкретные институты, призванные обеспечить устойчивую реализацию стратегических планов, особенно в их долговременной перспективе, прежде всего их адекватную ресурсную обеспеченность. Речь идет об экономико-правовых механизмах, создающих достаточную степень «защищенности» стратегических планов страны и ее регионов от различных факторов негативного воздействия извне, особенно в условиях сохраняющейся пока высокой зависимости экономики России от обстоятельств внешнего порядка.
Действительно, основной проблемой экономики советского периода, да и уже этапа российских экономических реформ, было в первую очередь не отсутствие разного рода планов, концепций, программ и пр., в том числе и долговременного характера. Проблемой неизменно оставалась очевидная неспособность целостно реализовать эти планы на практике, в том числе из-за неадекватного ресурсного (прежде всего финансового) обеспечения, а также из-за отсутствия эффективно действующих управленческих механизмов и систем контроля. Существенной проблемой была и остается невозможность в полной мере нивелировать воздействие на ход выполнения планов отрицательных факторов внешнего характера, в частности разного рода ограничений на ресурсы бюджетной системы страны и пр.
В настоящее время попытка перехода к практике стратегического планирования осуществляется в стране не просто на фоне сложных экономических обстоятельств, но еще и в ситуации, когда возможности предвидения положения дел на перспективу весьма ограничены, а всякого рода риски очень велики. При этом факторы, определяющие это положение дел, во многом находятся вне зоны нашего прямого воздействия. Даже краткосрочные прогнозы, полученные из разных источников, сегодня заметно разнятся и к тому же, быстро корректируются. На долгосрочные прогнозы вообще мало кто решается из-за крайне низкой достоверности. В этих условиях не случайны голоса о том, что лучшее, что мы можем сейчас сделать, – принимать годичные антикризисные программы (что фактически и делается в 2015 и 2016 гг.), а со стратегическим планированием, якобы, надо подождать.
Такие мнения не случайны и порождены они не только не очень удачным положением дел в национальной экономике. Получается, что уже первую свою «проверку на прочность» закон о стратегическом планировании не выдержал. Вполне реально и впечатление того, что ФЗ-172 создавался в расчете на неизменность очень благоприятной ситуации сплошных «тучных лет», когда экономическая база стратегического планирования полагается наличествующей «априори», то есть как нечто данное и неизменное. Однако ситуация последних лет показала, что такая посылка просто несостоятельна.
В 2015 г. бюджеты всех уровней бюджетной системы страны столкнулись со значительным падением доходов. В результате дефицит консолидированного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов составил в 2015 г. более 2,8 трлн руб., или 3 % ВВП против 1 % в 2014 году. Для федерального бюджета дефицит составил 2,4 % ВВП в 2015 г. против менее 0,5 % в 2014 году. Примерно та же ситуация наблюдается и в региональном звене бюджетной системы страны. Так, в 2015 г. только в девяти субъектах Федерации консолидированные бюджеты были исполнены с положительным сальдо [1, с. 1, 3].
В этом смысле вполне адекватным видится принятое ранее решение о временном отказе от трехлетнего бюджетного планирования. Альтернативой такому бюджетному планированию предлагается сделать долгосрочные бюджетные прогнозы [7], но это явно неравноценная замена. Осуществленный в 2015 г., пусть и временный, переход к годичному бюджетному планированию, несомненно, существенно затормозит практическую реализацию стратегического планирования во всех его составляющих. В условиях достаточно высокой инфляции (до 8 % в год и выше), снижения инвестиций (почти 10 % в 2015 г.) и реальной заработной платы (около 10 %) существенные моменты неопределенности складыва- ются относительно долговременного предвидения многих основных факторов роста экономики и формирования бюджетных ресурсов государства. Это – потребительский и инвестиционный спрос, возможности наращивания не сырьевого экспорта и пр. Сказанное касается также предположительной динамики различного рода тарифов естественных монополий и иных «вводных», без четкой картины изменения которых на перспективу всякое стратегическое планирование неизбежно оказывается мистификацией.
Кроме того, закономерно предположить, что стратегическое планирование – это не план антикризисных мероприятий, пусть даже и рассчитанный на длительный срок. Для этих целей существуют текущие стабилизационные планы, которые, собственно, и принимались на 2015, а затем и на 2016 годы. Стратегический план – это прежде всего план развития, план подъема экономики, ее модернизации и решения крупномасштабных задач социального характера. Но это требует убежденности в возможности страны в пределах действия такого плана выйти на достаточно высокие темпы экономического роста, чтобы обеспечить адекватную ресурсную базу реализации всей системы целей стратегического планирования.
В свое время эта мысль была зафиксирована в первоначальном варианте «Основных направлений деятельности Правительства РФ» (вариант от января 2013 г.), где отмечалось, что «без реализации активной и целенаправленной экономической политики темпы экономического роста снизятся в 1,5–2 раза (до 2–3 % в год). Это критически мало. При такой динамике валового внутреннего продукта не удастся сбалансировать экономические и социальные составляющие развития страны» [8]. Но если в 2013 г. темпы прироста ВВП в 2–3 % в год казались недостаточными, то сегодня можно о них только мечтать. Скорее всего, такие темпы роста едва ли достижимы до периода 2019–2020 годов. О том, что известная и формально еще не отмеченная «Концепция-2020» исходила из среднегодовых темпов прироста ВВП страны в 6,4–6,5 % в год [4], даже не стоит и вспоминать.
Отсюда возникают два важных вопроса. В состоянии ли мы в полной мере осуществить полномасштабный переход к системе стратегического планирования в те сроки, которые прописаны в 172-ФЗ (согласно ст. 47 закона – до 1 января 2017 г.). Во-вторых, нужно ли вообще сейчас ставить перед собой такую сложную и трудоемкую задачу? Ведь серьезно поручиться за доста- точно высокие темпы экономического развития страны на временном горизонте подобного плана мы явно пока не в состоянии.
Формально решение о переносе сроков завершения подготовки всего блока документов стратегического планирования на федеральном уровне пока еще не принято. Однако надо иметь в виду, что подготовка таких документов не может носить стихийный, неупорядоченный характер. Оно должно быть последовательным, исходя из положений общегосударственной стратегии развития до 2030 года. В качестве исключения можно рассматривать лишь Стратегию национальной безопасности, обновленный вариант которой был утвержден Президентом РФ в конце 2015 г. [12]. Между тем, выступая на «Правительственном часе» в Государственной думе РФ, министр экономического развития РФ А.В. Улюкаев сказал следующее: «…рассчитываем, что уже до декабря 2018 г. будет представлена отработанная стратегия социально-экономического развития России» [13]. Это, по сути, формализует отсрочку формирования пакета документов стратегического планирования на 2 года. Значит, еще 2 года (2017– 2018 гг.) мы опять-таки будем жить годичными планами стабилизации?
И все же думается, что не следует противопоставлять стратегическое планирование текущим антикризисным мерам при всей их востребованности. Другое дело, что ситуация кризиса и стагнации, о чем теперь на самом высоком уровне говорят как о достаточно длительной перспективе, очевидно должна наложить свой отпечаток на то, что и как реально будет возможно и необходимо стратегировать в ближайшей перспективе. Здесь следует выделить такие особенности.
Прежде всего, сложившаяся ситуация заставляет осуществить перенос акцента в практике стратегического планирования на всех уровнях управления с попытки предугадать количественные индикаторы экономического и социального роста страны на долговременную перспективу на идею приоритета институционального стратегирования. Речь идет о доминирующем значении долговременного планирования, формирования и деятельности тех институтов и инструментов государственного регулирования, которые и будут способствовать преодолению стагнации, осуществлению структурных изменений в экономике, ее выходу на путь устойчивого, инновационно-ориентированного развития. Другими словами, речь идет о целенаправленном форми- ровании институтов развития экономики и государственного управления, которые призваны минимизировать факторы неустойчивости, непредсказуемости социоэкономической динамики и, значит, существенно повысить обоснованность всех составляющих практики стратегического планирования.
Если говорить более конкретно, институциональный срез стратегирования – это прежде всего представленная на перспективу ответственная позиция руководства страны и ее регионов по перспективам налоговой, инвестиционной, инновационной и научно-технической политики, таможенной и тарифной политики; по долговременным планам закупок для государственных нужд; по долговременным ориентирам формирования системы специализированных «институтов развития». Институциональный аспект стратегического планирования касается также развития форм и инструментов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществления мер социальной поддержки отдельных групп населения, открытия новых «ниш» для государственно-частного партнерства и пр. Однако именно этот срез стратегического планирования в 172-ФЗ в настоящий момент представлен наименее обстоятельно.
В этом смысле можно сказать, что даже стабилизационные планы Правительства РФ на 2015 и особенно на 2016 гг. значительно более нацелены на институциональные новации в экономической политике государства, нежели закон о стратегическом планировании. Так, в числе важных новаций 2016 г. указаны такие меры, как докапитализация Фонда развития промышленности; создание Агентства по технологическому развитию; увеличение объема государственных гарантий по кредитам, привлекаемым в целях проектного финансирования; дополнительная поддержка государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства»; дополнительные субсидии на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров; значительное расширение «поля» для проектов государственно-частного партнерства; утверждение «дорожных карт» Национальной технологической инициативы; проведение оценки эффективности функционирования особых экономических зон и ликвидация неэффективных из них, а также разработка крайне важного федерального закона, нацеленного на создание механизмов стимулирования модернизации объектов промышленного производства.
Конечно федеральный закон о стратегическом планировании – не конкретный план работы исполнительной власти на тот или иной период времени. Однако мы полагаем, что, наряду с отраслевым и пространственным срезами стратегического планирования, 172-ФЗ должен четко обязывать исполнительную власть стратегиро-вать одновременно и даже «на упреждение» весь ход институциональных изменений в экономике. Разумеется, что эта работа должна вестись постоянно, в расчете на различные варианты развития событий, а не только тогда, когда на экономическом горизонте страны сгущаются тучи стагнации и кризиса.
Стратегический план и сценарии будущего. В этой связи, как мы полагаем, формулу «отсрочки» с подготовкой и практической реализацией документов стратегического планирования следует заменить или, скорее всего, дополнить усилением акцента на сценарный характер стратегического плана. Речь идет о варианте стратегирования, позволяющем гибко адаптировать основные составляющие этого плана (цели, средства и ресурсы их достижения) под разнообразие тех социально-экономических ситуаций, которые могут сложиться в стране в предстоящей перспективе.
Сценарное планирование – один из тех инструментов стратегического управления, которые активно развивались в последние 25–30 лет. Как и многое иное в арсенале стратегического планирования и управления, сценарный подход изначально сложился в практике предпринимательского менеджмента (стратегирования фирмы) и затем был перенесен на сферу действий (исполнения полномочий) органов публичной власти. Усиление сценарного характера плана принципиально необходимо для практики стратегирова-ния в ситуации многих неопределенностей, рисков и даже шоков в экономическом будущем страны и ее регионов. В самом 172-ФЗ идея сце-нарности есть, но она по непонятным причинам адресуется (ст. 23) только стратегическому прогнозу. Этого явно недостаточно. Однако тут надо уточнить, что имеется в виду под «сценариями», «сценарным вариантом» прогноза и стратегического плана.
Прогноз – это видение наиболее достоверного значения тех или иных индикаторов, которые могут быть просто объектом статистичес- кого наблюдения или целевым индикатором некоей программы, плана, стратегии и пр. В основе прогнозных значений могут лежать методы экстраполяции, математической формализации, экспертных оценок и пр. Сценарный характер прогноза, как правило, реализуется через «вилочное» обозначение прогнозируемых показателей и/или через набор сценариев прогноза. Таковым составители любят присваивать такие наименования, как «оптимистический», «пессимистический» («критический»), «базовый» («усредненный») и пр., неадекватность которых для практики управления уже неоднократно отмечалась в нашей экономической литературе [2; 3; 9]. Но дело, конечно, не в названиях, так как сценарии могут различаться и по каким-то чисто количественным макроэкономическим параметрам. Суть дела – в реальной практической работоспособности сценарного варианта стратегического прогнозирования и планирования.
Сценарный вариант плана не является аналогом сценарного варианта прогноза, это – значительно более емкое, системное понятие, реализовать такую модель стратегического плана весьма непросто. Для иллюстрации этого положения можно обратиться к упомянутой ранее «Концепции-2020». Исходя из «Введения», следует сделать вывод, что формулировка сценариев вообще не является одной из задач этого документа. Тем не менее во второй половине документа идея сценарности развития российской экономики на долговременную перспективу все же неожиданно обозначается. Всплывает модель «социально-экономического развития страны в рамках инновационного сценария» (раздел V, п. 6 и далее). Иногда далее этот сценарий развития именуется не только инновационным, но и еще одновременно – социально-ориентированным. Однако надо признать: в данном случае представлены трактовки, не имеющие ничего общего с реальным сценарным страте-гированием и ограничивающиеся одними голословными утверждениями.
Отличительные черты особого «инновационного» сценария развития российской экономике в документе не представлены, но можно предположить, что отражением таковых являются все основные целевые параметры, заложенные в данном документе. О том, как далеки от реальности оказались эти целевые параметры и по какой причине, мы уже сказали выше. Тем более удивительным представляется нам следующий пассаж из Концепции-2020: «Инновационный сценарий от- личается повышенной устойчивостью к возможному падению мировых цен на нефть и сырьевые товары, а также к общему ухудшению мировой динамики». И далее: «…предполагаемая краткосрочность кризисных процессов не скажется на базовых параметрах, заложенных при разработке инновационного сценария».
Мы не стали бы утомлять читателя пересказом документа, уже явно пережившего свое время, если бы была уверенность, что в новом блоке документов стратегического планирования, соответствующих формальным требованиям 172-ФЗ, действительно будет реализован полноценный сценарный вариант плана, позволяющий ему гибко реагировать на все трудности, риски и вызовы, неизбежные на продолжительном горизонте планирования. Прежде всего необходимым элементом сценарного подхода к планированию является вариантность развития событий и, соответственно, вариантность основных параметров и составляющих самого плана. Далее нам необходим сценарий не в традиционном для наших планово-прогнозных документов варианте «вилки макроэкономических показателей» (пессимистический, базовый и оптимистический варианты), с надеждой, что реальность в итоге хоть как-то попадает в эти «вилку».
Мы полагаем необходимой сценарность стратегии в виде описания потенциально вероятных трендов социально-экономического развития страны и, соответственно, системных планов действия Правительства РФ и его экономического блока на случай наступления тех или иных негативных обстоятельств, возникновения тех или иных рисков и даже «шоков» с соответствующими компенсирующими механизмами и пр. За каждой цифрой сценария (вариантом развития событий) должны стоять конкретные и наиболее действенные именно в этих условиях меры экономической политики, соответствующие институциональные и иные ресурсы и пр. При этом принципиально важным является методологический подход к вариации сценариев развития. Разумеется, вариация на основе комбинирования той или иной меры «оптимизма» и «пессимизма» чрезвычайно упрощает ситуацию и существенно снижает возможности использования сценарного варианта планирования в смысле обеспечения быстрых, адекватных и заранее продуманных шагов экономической политики государства при наступлении тех или иных условий.
С учетом опыта последних лет такой методологический подход, наш взгляд, связан со сце- нарностью, основанной на нескольких вариантах динамики (темпов прироста) реального (то есть с учетом инфляции) объема консолидированного бюджета Российской Федерации. Как методологическая основа вариации сценариев стратегического плана показатель реального объема консолидированного бюджета Российской Федерации более убедителен, нежели, скажем, реальная динамика ВВП. Дело в том, что различные виды экономической деятельности имеют разную «продуцирующую силу» с точки зрения доходов консолидированного бюджета. На данный момент нефтегазовый сектор экономики – очевидный лидер. В этой связи в условиях крупных структурных изменений в экономике, возможно и даже неизбежно замещение одних видов экономической деятельности другими, которые на определенном рубеже могут и не обладать такой же доходообразующей потенцией, как нефтегазовый сектор.
В результате реальный объем финансовобюджетного потенциала страны не сможет увеличиваться тем же темпом, что и физический объем ВВП. Между тем именно консолидированный бюджет – основной экономический ресурс стратегического планирования, определяющий масштабы применения его основных инструментов и достижения его приоритетных целей. Под возможные варианты динамики консолидированного бюджета и должны строиться сценарные варианты плана и адекватной им социально-экономической политики государства. Однако посылок к такой сценарности стратегического планирования, существенно востребованной нынешними обстоятельствами, пока не видно.
Субфедеральное стратегирование необходимо. Формально уже никто не подвергает сомнению тот факт, что стратегическое планирование эффективно реализуемо лишь как особая вертикаль управления на единой правовой и методологической базе. Однако сегодня возможности полномасштабного стратегирова-ния на субфедеральном уровне управления весьма проблематичны, если, конечно, говорить о стратегии как рабочем документе управления, а не как об очередном манифесте, формально действующем от одних губернаторских выборов до других.
Большинство регионов России сегодня практически ориентируется не на стратегию развития, а на стратегию выживания. Бюджеты большинства регионов являются дефицитными. Так, в 2015 г. только в девяти субъектах РФ кон- солидированные бюджеты (расширенные) были исполнены с положительным сальдо. Хроническая дефицитность региональных бюджетов неизбежно ведет к нарастанию долгов субъектов Федерации. На рубеже 2015–2016 гг. совокупный долг субъектов Федерации превысил 2,5 трлн рублей. При этом на начало 2015 г. совокупный долг превышал 100 % собственных доходов в 10 регионах России, а к концу 2015 г. – уже в 12 регионах. По сути, это уже регионы-банкроты, хотя строго формально к субъектам Федерации как публично-правовым образованиям термин «банкротство» неприменим.
В 2016 г. регионам предстоит выплатить в порядке обслуживания своих долгов более 400 млрд рублей. Федеральный центр обещает помощь наиболее провальным «должникам», в частности через замещение коммерческих заимствований (банковские кредиты, облигационные займы и пр.) бюджетными кредитами, а также за счет дополнительных дотаций на так называемую сбалансированность региональных бюджетов и пр. Однако в настоящее время возможности федерального бюджета выделить для этого необходимые средства как никогда ограничены. Так, в кризисном 2009 г. доля федеральных трансфертов в доходах консолидированных бюджетов субъектов Федерации разом возросла до 27 % против 19 % в 2008 г. и 16 % в 2007 году. В 2014 г. этот показатель составил 18 %, в 2016 г. – 16 %, и возможностей его существенного увеличения на фоне нынешней бюджетной ситуации в стране явно не просматривается. Не случайно в 2015 г. Минфин России направляет регионам такой документ, как «Рекомендации по проведению субъектами Российской Федерации ответственно заемной/долговой политики» [10].
В структуре региональных бюджетов постоянно увеличивается доля обязательных к исполнению социальных расходов и сокращается доля капитальных вложений. Доля этих расходов в региональных бюджетах сократилась с 15 % в 2011 г. до 11 % в 2015 году. Между тем минимизация инвестиционной компоненты бюджетов – тенденция прямо противоположная формированию экономических предпосылок практики стратегического планирования. Разумеется, все это – достаточно проблематичная база для полномасштабного утверждения практики стратегического планирования в субфедеральном звене управления [11; 15].
Ситуация складывается таким образом, что «увертюрой» к развертыванию практики стратегического планирования должна стать система мер антикризисного регулирования и финансовой стабилизации. В частности, переходу к практической реализации модели стратегического планирования на субфедеральном уровне должно предшествовать осуществление радикальных мер (а возможно, и специальной государственной программы) по санации региональных и местных финансов, а также, как сказано в упомянутом выше документе Минфина РФ, по переходу к стратегическому управлению государственным долгом субъектов Федерации. Решение этой проблемы возможно и необходимо на двух временных горизонтах, в том числе с выделением нескольких типов регионов России, с учетом объективной оценки тех финансово-бюджетных возможностей, которыми они реально будут располагать в ближайшей перспективе.
На краткосрочном горизонте целесообразно принятие решения о поэтапном переходе субъектов Федерации к полномасштабной практике стратегического планирования. При этом для большого круга российских регионов должны быть разработаны адресные программы санации субрегиональных финансов, особенно для регионов – наиболее значимых должников, фактически банкротов. На более долговременном горизонте целесообразным представляется переход практики стратегического планирования в стране к новой модели бюджетного федерализма [8]. Речь идет о модели, не только формирующей более высокий уровень обеспеченности и устойчивости субфедеральных бюджетов, но и учитывающей специфику различных типов регионов России и, соответственно, гибко комбинирующей традиционные инструменты межбюджетных отношений с мерами поддержки социально-экономического развития регионов через целевые государственные программы, через деятельность различных институтов территориального развития и пр. Система межбюджетных отношений, адекватная требованиям практики стратегического планирования, предполагает, в частности, последовательный отход от уравнительного принципа взаимоотношений центра и регионов, переход к известной состязательности региональных стратегий и программ как преобладающей основе получения федеральной помощи через софинансирование таких программ и проектов развития экономики субъектов Федерации.
Итак, в деле о стратегическом планировании в России запятую нужно ставить так: «Отложить нельзя, реализовать».
Список литературы Стратегическое планирование в России: "отложить нельзя реализовать"
- Анализ тенденций в бюджетно-налоговой сфере России//Итоги 2015 г. РЭУ им. Г.В. Плеханова. -2016. -Вып. 2. -9 с.
- Григорьев, Л. Сценарии развития и экономические институты/Л. Григорьев//Экономическая политика. -2013. -№ 3. -C. 33-60.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.: утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/(дата обращения: 19.03.2015). -Загл. с экрана.
- Молчанов, Н. А. Новые аспекты правового регулирования государственного стратегического планирования в Российской Федерации/Н. А. Молчанов, В. П. Егоров, Е. К. Матевосова//Актуальные проблемы российского права. -2015. -№ 2. -C. 28-34.
- Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (ред. от 31 января 2013 г.). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://archive.government.ru/media/2013/2/1/54666/file/ONDP.doc (дат а обращения: 19.03.2015). -Загл. с экрана.
- Петров, В. А. Некоторые вопросы совершенствования межБюджетных отношений/В. А. Петров//Бюджет. -2015. -№ 1. -C. 18-23.
- Основные положения, касающиеся бюджетного прогноза на долгосрочный период, установлены Федеральным законом от 4 октября 2014 г. № 283-ФЗ в ред. Федерального закона от 24 ноября 2014 г. №375-ФЗ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171291;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.49686369024990923 (дата обращения: 19.03.2015). -Загл. с экрана.
- Рау, Э. И. Сценарии развития экономики России: оценка и перспективы/Э. И. Рау//Финансовая аналитика: проблемы и решения. -2013. -№ 36. -C. 35-40.
- Рекомендации по проведению субъектами Российской Федерации ответственной заемной/долговой политики. -М.: Минфин России, 2015. -29 с.
- Сенчагов, В. К. Бюджет России 2015-2017 гг. -бюджет торможения структурной перестройки экономики/В. К Сенчагов, Б. В. Губин, В. И. Павлов, И. В. Караваева, Е. А. Иванов//Вестник Института экономики Российской академии наук. -2015. -№ 1. -C. 30-80.
- Сорокин, Д. Е. Оптимистический сценарий развития российской экономики/Д. Е. Сорокин//Вестник Финансового университета. -2014. -№ 5. -C. 6-15.
- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669//(дата обращения: 19.03.2015). -Загл. с экрана.
- Улюкаев, А. В. В экономике важно развитие и долгосрочных механизмов финансирования (Доклад Главы Минэкономразвития РФ в ходе Правительственного часа. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации, 16 марта 2016 г.). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/press/official/2016160301 (дата обращения: 19.03.2015). -Загл. с экрана.
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». -Электрон. текст. дан. -Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/(дата обращения: 19.03.2015). -Загл. с экрана.
- Фролова, В. Б. Финансовый потенциал России: негативные тенденции/В. Б. Фролова//Экономика. Налоги. Право. -2015. -№ 1. -C. 66-71.