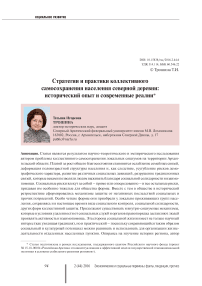Стратегии и практики коллективного самосохранения населения северной деревни: исторический опыт и современные реалии
Автор: Трошина Татьяна Игоревна
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Социальное развитие
Статья в выпуске: 2 (44), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья является результатом научно-теоретического и эмпирического исследования автором проблемы коллективного самосохранения локальных социумов на территории Архангельской области. Платой за рост общего благосостояния становится ослабление семейных связей, деформация половозрастной структуры населения и, как следствие, усугубление рисков демографического характера, развитие различных социальных девиаций, разрушение традиционных связей, которые веками позволяли людям выживать благодаря социальной солидарности и взаимопомощи. Социальные риски влекут за собой - прямо или опосредованно - и все остальные риски, придавая им особенно тяжелые для общества формы. Вместе с тем в обществе в исторической ретроспективе сформировались механизмы защиты от негативных последствий социальных и прочих потрясений. Особо четкие формы они приобрели у локально проживающих групп населения, сохраняясь и в настоящее время в виде социального контроля, социальной солидарности, других форм коллективной защиты. Продолжают существовать и внутриоциумные механизмы, которые в условиях удаленности от социальных служб и органов правопорядка заставляют людей проявлять активность и взаимопомощь. Эта сторона социальной жизни имеет не только научный интерес (как уходящая традиция), но и практический - поскольку сохраняющийся таким образом социальный и культурный потенциал можно развивать и использовать для организации жизнедеятельности отдаленных населенных пунктов. Опираясь на изучение истории региона, автор выявила риски социокультурного характера, которые могут возникнуть у населения отдаленных и слабозаселенных территорий под влиянием различной природы внешних и внутренних вызовов. На основе этой концепции была составлена и реализована в 2015 году программа полевого изучения стратегий и практик преодоления этих рисков локально проживающими социумами.
Отдаленные и слабозаселенные территории, сельское население, архангельская область, социокультурные риски, коллективное самосохранение, социальная история, полевые исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/147109839
IDR: 147109839 | УДК: 314.114 | DOI: 10.15838/esc/2016.2.44.6
Текст научной статьи Стратегии и практики коллективного самосохранения населения северной деревни: исторический опыт и современные реалии
Русская деревня, крестьянство, сельское население всегда были достаточно популярным предметом научного исследования экономистов, социологов, историков, культурологов. Сейчас, когда происходит рефлексия по поводу последствий кризисных явлений в общественной, экономической, политической и культурной жизни, это внимание сохраняется и обостряется. Причина в том, что любая дискуссия о современном состоянии российского общества, о причинах неуспешности проводимых реформ ставит вопрос о «национальном менталитете». И если маргинальные социальные группы рано или поздно изменяют свой менталитет, приспосабливаясь под потребности модернизируемого общества, то такие традиционалистские слои, как крестьянство, на протяжении всех реформ и революций проявляли удивительное упорство в сохранении своих представлений, своего образа жизни.
Крестьянство, отличаясь особым типом ментальности и подчиненным положением по отношению к власти и иным социальным группам [14], казалось бы, никогда не было актором политической жизни. Но, оставаясь до середины ХХ века большинством населения России, оно само по себе, как отмечал американский советолог, выходец из Советского Союза М. Левин, составляло важнейший фактор развития событий российской истории [16]. Любые изменения происходили под влиянием реакции многомиллионного и относительно целостного крестьянского общества на принудительные меры государства по проведению модернизации (от кого бы они ни исходили – от Петра I, П.А. Столыпина или И.В. Сталина). В 1917–1920 годах эта реакция вылилась в архаизацию деревни, а именно привела к инверсии, к возвращению общинности в социальной жизни и аграрного производства – в экономической [2, 13, 15, 16].
М. Левин, однако, предлагал учитывать и то, что в результате ускоренной социальной мобильности представителями новой элиты на протяжении почти всего ХХ века в основном были выходцы из крестьянской среды, носители соответствующего менталитета, представлений, социальных ожиданий. Они привносили в реализацию модернизационного проекта «свою психологию, свои представления, свой менталитет, свою архаичную стихийность» [см.: 3], что и ставило на повестку дня очередную модернизацию [2].
Поскольку все бурные события в истории России на протяжении ХХ века приходились на периоды мощных урбанизаций и их основными участниками были выходцы из крестьянской среды в первом, редко втором или третьем поколении, не случаен интерес к постперестроечной деревне со стороны зарубежных исследователей. В 1990-е, в начале 2000-х годов в России было реализовано несколько больших совместных исследований, среди которых следует отметить российско-британский социологический проект «Изучение социальной структуры советского и постсо- ветского села» и проект «Индустриализированная деревня: к трансформации сельского стиля жизни в постсоциалистических обществах».
В рамках реализации этих проектов финансировались в первую очередь не архивные изыскания, а фиксация «устной истории», благодаря чему был собран уникальный материал, который позволяет ученым различных направлений (социологам, экологам, политологам, культурологам, юристам, историкам, экономистам) осмыслить переходный период не только с точки зрения интеллектуалов, но и «глазами простолюдинов».
Такое голографическое изучение современной деревни, при котором происходят попытки осмысления проблем, имеющих в том числе и историческую подоплеку (включение локальных социумов и отдельных индивидов в «расширенное общество», последствия «большого демографического перехода», мощной социально-культурной и экономической модернизации и проч.), демонстрирует и отдельные недостатки, оставшиеся нам «в наследство» еще от времен Радищева и революционных демократов, которым было свойственно идеализировать и одновременно жалеть крестьян, видя корень любого «зла» в государственной политике.
Описывая деревню, современные исследователи указывают на «несамостоятельность, безынициативность, надежду на сильного руководителя», видя в этом «наследство Советской власти, которое [деревня], в свою очередь, получила от своей предшественницы – царской России». «Патерналистская политика государства, которая транслировалась через крестьянскую общину до 1917 г. и через колхозносовхозный строй после революции, приучила население надеяться на то, что за тебя все будет решено» – так описывают авторы свои впечатления от изучения сибирского села [11, с. 64]. Поскольку такое объяснение входит в диссонанс с принятыми представлениями об особом характере русских сибиряков, – находят и другое объяснение. Оказывается, кроме негативного влияния «колхозно-совхозного строя», на менталитет жителей деревни повлияло и большое количество проживавших здесь переселенцев «из белорусских и смоленских деревень, где всего за 50 с лишним лет до основания [деревни] было крепостное право» [11, с. 64].
Проблемы для полноценной работы местного самоуправления, вызванные разрушением связей в деревне, глава администрации одного из башкирских районов увидел в миграционных процессах, и главным рычагом их, по его мнению, были репрессии сталинской эпохи (раскулачивание и проч.) [6]. В начале ХХ века миграция не была такой высокой, однако желающих на выборные должности находилось мало – возможно, по причине возраставшего доверия к закону, что уменьшало важность самоуправления. Когда же после революции произошло ослабление и делегитимизация государственной власти, – тогда самосохранительные институты поспособствовали воссозданию мощной системы самоуправления в деревне, которую, приспосабливая к новым государственным потребностям, пришлось разрушать достаточно жесткими способами.
Таким образом, сохраняется традиция видеть «во всем плохом» результаты либо крепостного права, либо советской власти. А для тех групп крестьян, которые традиционно рассматривались как положительный результат свободного развития (поморы, сибирцы), в качестве причины добавлялось еще внешнее воздействие в виде переселенцев, принесших с собой негативный приспособленческий менталитет. В результате всего этого комплекса причин и сложилось, как полагают, неприятие тех свобод, которые были дарованы эпохой реформ, объясняемое тем, что «в деревне нет шансов отстоять свои интересы, кроме глухого сопротивления и недоверия любым акциям властей» [10, с. 36].
Уже сложно обвинять во всем крепостное право (которое распространялось лишь на 40% сельского населения России, было отменено полтора века назад и к тому же принесло много положительного – в виде навязанных населению экономических, социальных и культурных инноваций). Да и колхозное время воспринимается сейчас далеко не отрицательно, что связано с общинной традицией, которую продолжают идеализировать. В поисках причин неудачи очередных реформ следовало бы опереться на знания о негативном восприятии крестьянством любых инноваций (например, начиная с введения в петровскую эпоху картофеля и его окучивания – до уборки машинами). Вслед за В.О. Ключевским, связывавшим большую устойчивость традиционных форм у «великороссов» с особенностями природно-климатических условий, Л.В. Милов объяснял это свойственным вообще России минимизированным прибавочным продуктом [18], что формировало страх перед любыми новшествами, любым отходом от проверенных временем стандартов.
Здесь следует учесть и региональные особенности отдельных крестьянских групп, которые нельзя игнорировать при всей внешней схожести крестьянства, существующей благодаря своему качеству как социальной основы. Сложно, например, сравнивать крестьян северо-восточных районов Архангельской области не только с земледельцами Южной Азии или Воронежской области, но и даже Вологодской. Так, меньшая приспособленность к изме- нениям, как экономическим, так и социальным, культурным, присутствует именно у крестьян, не знавших «крепостного ига» (которое, кроме прочего, включало ци-вилизирующее влияние помещиков, дворянской культуры) и привыкших ожидать в определенных обстоятельствах помощи именно от государства.
Многие интерпретации современных процессов в деревне можно подвергнуть критическому анализу с социально-исторических позиций. Но широкое обобщение – не задача историка. Поэтому в данной статье дается авторское понимание процессов «выживания» в условиях очередного варианта русской модернизации населения отдаленных и малозаселенных территорий Севера Европейской России, которое показывало и показывает удивительные примеры коллективного самосохранения в условиях любых, самых тяжелых кризисов.
Крестьянами принято называть представителей социальной группы, занятой натуральным или натурально-товарным сельскохозяйственным производством на базе семейного хозяйства (двора), существующих в специфическом природном и культурном контексте [14]. Этот термин стал уже как бы устаревшим. Социологи и экономисты все чаще используют понятие «сельское население», поскольку в силу различных обстоятельств большинство занятых сейчас в сельскохозяйственном труде в той или иной степени являются наемными работниками, а среди других обитателей сельской местности немало маргиналов, выкинутых из городской жизни под влиянием кризисных явлений 90-х годов. До сих пор в село продолжают возвращаться те, кто не смог найти своего места в городской жизни, которая на протяжении ХХ века становилась все более и более привлекательной для деревенской молодежи.
Обращает на себя внимание тот факт, что в литературе, не только публицистической, но нередко и научной, построенной на статистических данных, на результатах социологических опросов о «социальном самочувствии» населения, присутствуют упаднические настроения, оценки ситуации в современной русской деревне (прежде всего в Нечерноземье) как деградирующей.
Социологические опросы озадачивают «тенденцией социальной патологии и дезорганизации (алкоголизм, преступность и проч.), которая проявляется сегодня на селе гораздо резче, чем в городе» [10, с. 24]. Отмечается, что в оценке своего современного состояния и в социальных ожиданиях сельского населения «абсолютно преобладают темные и полутемные тона» [5, 7, 22, 26]. «Село, – пишет в 2005 году доктор экономических наук Л.В. Бондаренко, – переживает едва ли не самый драматичный период в своей истории. Оно отброшено в развитии на десятилетия назад. Усугубились негативные явления доперестроечного периода, возникли и прогрессируют новые – безработица, массовая бедность, недоступность образования, медицинской помощи, культурных, торговых, бытовых услуг, социально-психологический стресс, порожденный отступлением от ранее завоеванных позиций, неуверенностью в завтрашнем дне, “отсутствием света в конце туннеля”, нравственная деградация» [5, с. 69]. С опорой на конкретные цифры делаются выводы об отставании доходов селян от доходов жителей городов, о сокращении населенных пунктов в сельской России, высокой естественной убыли, вызванной в том числе и худшей обеспеченностью сельских поселений основными объектами социальной сферы, их недоступностью из-за отдаленности и слабого развития транспортной инфраструктуры.
Таким образом, формальные методы исследования социальных и социально-экономических условий северной деревни (и не только на современном этапе – можно обратиться к публикациям схожего характера начала ХХ века) дают негативную картину происходящего.
Положительно оценивать деревню, пожалуй, продолжают только этнографы, которые в силу специфики своего предмета изучают сохранившиеся традиционалистские формы, воспринимая их при этом чаще всего как архаичные, устаревшие. Вместе с тем, опираясь на свои полевые исследования, проведенные еще в 1970–90-е годы, автор видела в подобных традиционных формах материальной и духовной жизни, восстановленных в экстремальных экономических условиях 1920-х годов, проявление самосохранительных технологий, нацеленных на социальное, культурное и материальное выживание [23]. Подобное сопротивление инновациям, сохранение в коллективной памяти альтернативных способов существования, готовность при необходимости их реанимировать рассматривалось Дж. Скоттом как способ пассивного сопротивления навязываемым новшествам [21]. Впрочем, по мнению израильского социолога Ш. Эйзенштадта, демонстративное неприятие навязываемых инноваций может иметь и другой смысл: отражать «процесс реконструирования ряда существующих [социальных и культурных] моделей» и подготовку их к функционированию в новых реалиях, то есть к созданию новых форм социальной жизни [29].
С мрачными оценками современного состояния деревни (которые можно объяснить вообще характерным для сельского населения стремлением несколько занизить при формальном социологическом опросе свое материальное положение, негативно охарактеризовать его по срав- нению с прошлым) контрастирует исследование Ю.М. Плюснина. Изучая в течение нескольких лет систему местного самоуправления локально проживающих обществ как бы «изнутри», путем включенного наблюдения [20], он предложил «гипотезу детерминации уровня развития местного самоуправления действием механизмов изоляции», отметив, что «более развитое самоуправление» проявляется именно в удаленных, локальных поселениях, то есть «при наличии изолирующих условий» [19]. Разумеется, негативные приметы современной сельской жизни скрыть нельзя, однако, по мнению исследователя, они преувеличены менее внимательными и вдумчивыми наблюдателями, да и чаще всего связаны с «пришлым» элементом, который (как после 1918 года) захлестнул русскую деревню в 1990-е.
Отличие выводов при изучении, казалось бы, одного объекта (современной нечерноземной деревни) объясняется исследовательскими подходами. Формальный социологический опрос или интерпретация статистических сведений создает иное представление, чем включенное наблюдение, проведение глубинных интервью и обработка полученных результатов с применением процедуры плотного описания, то есть методов, широко применяемых в этнографии. Обоснование этих методов применительно к изучению современной деревни представлено В.Г. Виноградским [8], Н.Н. Козловой [13].
Говоря о Дж. Скотте, Т. Шанин особо отмечал его этнографическую, полевую работу [27]. Выводы Скотта о «пассивном сопротивлении» крестьян любым действиям властей как единственном доступном орудии борьбы [21] широко используются при интерпретации социальной истории и современной действительности русской деревни. Однако, при всех схожих формах сопротивления, вряд ли корректно сравни- вать крестьян Юго-Восточной Азии с русскими, тем более северорусскими крестьянами, из которых особо «вытягивать» было нечего, и государство в отношении их чаще выступало с патерналистской политикой, одной из форм которой было достижение консенсуса власти и населения с целью не допустить ярко выраженного гражданского неповиновения.
Анализ Дж. Скотта для исследователей русской деревни важен скорее как методологический инструментарий, предлагающий интерпретировать различные формы социальных стратегий крестьянского населения, наблюдаемые путем применения этнографических методов, с помощью исторических знаний, предполагающих большой объем сравнительных подходов как в синхронном, так и в диахронном измерении. Например, при использовании «семейных» и других «устных историй» следует учитывать отмеченное Скоттом «недоговаривание» перед «чужими», а при интерпретации результатов включенного наблюдения и записанных рассказов («мемората») – пользоваться имеющимся историческим материалом.
Вообще, заточенность исторических и этнографических исследований на объяснение судеб северной русской деревни присутствовала, на пике «перестройки», на конференции в Вологде в 1989 году [1]. Новые подходы к деревне ХХ века в Вологде продолжают развиваться [4, 12]. Однако эти исследования нечерноземной деревни все же в первую очередь касаются населения больших сел и деревень. Автор же сосредоточила свое внимание на территориях, которые и в более давние времена сохраняли население в значительной степени благодаря усилиям государства; делает акцент на тех деревнях, которые почти исчезли из списка населенных мест, с целью выяснить, что же заставляет людей держаться за эту землю.
Положенное в основу статьи исследование не соответствует общему крестьяно-ведческому мэйнстриму еще и по причине специфики крестьянского населения северных территорий, не просто непроизводящих, а нередко и совершенно неземледельческих. Есть основание утверждать, что к началу ХХ века в северных регионах Европейской России крестьянства в чистом виде (не как сословия, а как социально-экономической группы) не было, поскольку по природно-климатическим условиям занятия сельского населения не имели исключительно земледельческой направленности. Любая крестьянская семья ту или иную часть своей рабочей силы направляла на занятия неземледельческими промыслами и на фабрично-заводские работы. Если в центральной России вне-земледельческие ориентации крестьянства стали развиваться в пореформенный период, то на Европейском Севере промысловая направленность хозяйственной деятельности крестьян имела давнюю историю. В северных уездах региона земледелие являлось для крестьян лишь дополнительным занятием, к которому возвращались только в случае сокращения других видов заработка. Так произошло, например, в третьей четверти XIX века в связи с сокращением и ликвидацией в крае государственной промышленности. Крестьянин средней полосы России был вынужден заниматься неземледельческими видами деятельности, чтобы заработать деньги на уплату налогов. Северный крестьянин нуждался в заработках для приобретения хлебных продуктов и ряда других продовольственных товаров, что способствовало его стремлению заниматься наемным трудом. О ранней пролетаризации северных крестьян уже в середине XIX века писал экономист-народник В.В. Берви-Флеровский [25, с. 246].
Можно сказать, что сельскохозяйственные устремления здесь были сформированы в советское время, под влиянием колхозов, из которых, как известно, выйти было достаточно сложно. Вместе с тем отдаленность большинства северных деревень, плохая транспортная связь приводили к тому, что занятия сельским хозяйством здесь были не только затрудненными в силу природно-климатических возможностей, но и бесполезными, т. к. вывезти произведенную продукцию для реализации иногда было просто невозможно. Тем более в рыночных условиях, когда произведенная таким образом продукция становилась неконкурентоспособной по сравнению с привезенной даже из «дальнего зарубежья».
В своем исследовании автор исходит из того, что в 1990-е годы в российской деревне происходили события, схожие с другими «смутными» временами (в том числе – после революции 1917 года). Государство ослабило контроль за экономической, социальной, культурной жизнью населения. Нарушились налаженные в советские годы транспортная связь, системы здравоохранения и образования, другие формы жизнеобеспечения (торговля, помощь при стихийных бедствиях, контроль за девиациями). Это в особой степени коснулось северных территорий, которые еще с 1970-х годов были «приговорены» к сокращению численности сельских поселений; в 1990-е годы программа «переселения с северов» не была окончательно реализована только из-за недостатка финансирования.
«Постперестроечная» ситуация была чревата также тем, что деревня оказалась «прибежищем» для значительной части земляков, которые в период интенсивной социалистической урбанизации покинули родные места, но в условиях деиндустри- ализации и деконверсии 90-х годов потеряли работу, а многие – и иные стержни в жизни. Следует признать, что возвращались далеко не самые успешные горожане, чем создавалось дополнительное напряжение в деревнях.
Специфические самосохранительные стратегии локальных социумов (под которыми автор имеет в виду население отдаленных и малонаселенных северных территорий) сложились под влиянием событий заселения этих территорий и тех рисков и опасностей, которые ожидали здесь население в связи с неблагоприятными природно-климатическими факторами.
Определенная часть автохтонного населения Русского Севера переселилась сюда в условиях так называемого «климатического оптимума», позволявшего переселенцам заниматься привычными видами деятельности. По мере похолодания климата происходила экономическая и культурно-бытовая адаптация этих групп населения к новым условиям.
Миграционные процессы, происходившие в позднейшее время (с конца XVII века), были связаны с политическими условиями: под давлением репрессивной политики государства сюда уходили старообрядцы. Они стремились селиться на удаленных от контроля властей территориях. Занимаясь земледелием в мало приспособленных для этого регионах, они дисперсно заселили огромные северные площади. Малолюдные поселения старообрядцев были разделены огромными бездорожными пространствами, и такая удаленность и труднодоступность поддерживалась ими осознанно. Вместе с тем именно старообрядцы начали включаться в товарно-денежные отношения, т.к. были заинтересованы в доходах для уплаты государству налогов, дающих им право относительно свободно проживать и исповедовать свою веру. Сельское хозяйство в этой зоне рискованного земледелия не давало нужных заработков. Поэтому русское население Севера стремилось освоить новые занятия, все более проникая на территории, занятые, например, ненцами, и создавая им конкуренцию как в оленеводстве, так и в промыслах (лесной и морской охоте, рыболовстве). Другим способом заработка денег, необходимых для уплаты налогов и других целей, стали отхожие городские занятия: фабрично-заводские, строительные, в сфере услуг и проч.
В связи со спецификой расселения населения здесь возникло несколько групп опасностей:
-
1. Со стороны властей (в лице чиновников) опасность исходила уже по факту принадлежности значительной части населения к расколу.
-
2. Можно предположить, что в доим-перский и раннеимперский периоды население таких малолюдных и отдаленных деревень подвергались нападениям разбойников и банд дезертиров, которых здесь немало оказалось во времена грандиозных строек петровской эпохи. Опасность вооруженного нападения исходила и от соседнего населения, желавшего изгнать со своих территорий экономических конкурентов.
-
3. Не меньше рисков создавало нарушение внутрисоциумного равновесия, исходящее от членов сельских общин, длительное время проживавших вне их (находясь на службе в армии, на отхожих работах) и подвергавшихся воздействию факторов иных культур. Под влиянием этих процессов существовавшая система социального контроля (и самоконтроля) постепенно подвергалась эрозии.
Исторически в локальных социумах сложилась система защиты от этих опасностей.
В отношении властей
-
• В результате движения навстречу интересам друг друга возникла система консенсуса , предполагающая взаимные уступки со стороны государства и населения. Локальные социумы получали права самостоятельности в решении отдельных вопросов (например, организация внутренней жизни в соответствии с «обычным правом»; возможность самим решать, кого «отдавать» в рекруты и на другие «царские службы») в обмен на уплату налогов и исполнение государственных повинностей: строительство дорог и переправ, их содержание и проч. Со стороны государства подобный консенсус был обоснован невозможностью контролировать жизнь малолюдных поселений, разбросанных на огромных территориях. По мере укрепления чиновничьего аппарата и усиления власти закона происходило включение всех групп населения в общегосударственное правовое пространство.
-
• Сформировалась система «круговой поруки» , устраивающая как власти, так и население. Государство воздействовало на локальные социумы через выбранных представителей, которые в случае нарушения установившегося консенсуса отвечали перед властями. Со своей стороны население гарантировало своему представителю защиту в случае возможного наказания со стороны властей. Власти (и царские, и раннесоветские) это понимали; за «мирские преступления» (например, коллективные порубки государственного леса, раздачу заготовленного по госзаданию зерна и других ресурсов) наказывали экономически: штрафовали старосту или конфисковали часть его имущества, и население компенсировало своему представителю эти потери. В случаях, если требования властей были нереальны для исполнения или экономическое наказание оказыва-
- лось слишком тяжелым для населения, такая «круговая порука» нарушалась и представитель местного самоуправления «отдавался» властям для несения наказания («пострадать за мир»).
Защита от «чужих» первоначально выражалась в возможной системе обороны от возможных нападений. Судя по позднейшим сведениям, это выглядело так: в случае нападения на деревню (например, прихода карательного отряда, как случалось во время подавления бунтов) по условному сигналу, обычно колокольному набату, все мужчины, вооружившись, бежали на подмогу. Позднее такой способ самозащиты трансформировался в коллективную помощь, к примеру, при пожарах. В годы гражданской войны были прецеденты создания отрядов самообороны для защиты своих деревень от реквизиций, грабежа со стороны солдат и отрядов дезертиров. Это так же было рецидивом коллективной памяти, когда крестьяне совместно вооружались – сначала против шаек разбойников, затем против волков. Такую систему самообороны использовало и государство, привлекая население для устройства облав на беглых преступников.
Исторические аналогии показывают, что в догосударственные времена могли существовать такие формы защиты локального социума от «своих» девиантных членов, как изгнание и даже убийство. Позднее, опасаясь ответственности за самосуды, «неугодных» крестьянскому обществу лиц стали сдавать властям или давать им паспорта на отход. Следует учитывать, что некоторые «девиации» в глазах государства были положительными. Например, желание заниматься иными видами деятельности, получить образование, перейти в другое сословие и т.д. Вскоре возникло своеобразное равновесие: лишние и по разным причинам ненужные в крестьян- ской среде люди выталкивались из нее и находили свое место в «расширенном» обществе. Некоторые из таких маргиналов, как правило вынужденные, возвращались в деревни (после службы в армии, ученичества и отхожих занятий в городах); с помощью социального контроля их принуждали к конформному поведению, как того требовала традиция. Другие, оторвавшись от родных корней, возвращались сюда под влиянием обстоятельств. Особенно массовым было возвращение из голодающих городов в период революции и гражданской войны. Вернувшиеся однообщинники нередко были носителями новых, чуждых традициям локального социума установок. Групповое давление (негативная стереотипизация, пренебрежение, позорящие наказания и другие санкции) не всегда оказывали нужное воздействие на таких людей. От них стремились избавиться другими способами; иногда население, сговорившись, оговаривало перед властями нежелаемо-го однообщинника. Были и более жестокие расправы над земляками, чье поведение грозило благополучию и спокойствию остальных (подобные случаи автор специально описала на материалах послереволюционной северной деревни [24]).
Приведенные результаты изучения социокультурной истории региона были положены в основу определения тех рисков социокультурного характера, которые могут возникнуть у населения отдаленных и слабозаселенных территорий под влиянием различной природы внешних и внутренних вызовов. С опорой на сделанные выводы, а также на собственный опыт полевой работы, осуществлявшейся в 1980–90-е годы, автором была составлена и реализована в 2015 году в отдаленных поселениях Архангельской области программа изучения стратегий и практик преодоления этих рисков локально проживающими социумами.
В настоящей статье представлены результаты по деревням трех районов – Ле-шуконского, Мезенского, Пинежского. Площадь этих районов составляет 92,3 кв. км, а население – чуть больше 40 тысяч человек (то есть 0,4 жителя на 1 кв. км), и при этом постоянно сокращается. Население проживает в 225 селах, поселках и деревнях; есть еще 2 городских поселения (Мезень, Каменка), бывший город Пинега (теперь поселок) и еще два районных центра – Ле-шуконское и Карпогоры. Общее население этих «городков» – 11,5 тыс., т.е. более четверти населения районов. В остальных 220 поселениях в среднем проживает по 140 человек. Но это в среднем. Например, в «наиболее урбанизированном» Лешукон-ском районе в деревнях проживает жителей в 4–5 раз меньше этого показателя.
Еще в XIX веке это были многолюдные (по северным меркам) и богатые территории. Сокращенные поморские промыслы сменились доходными лесопромышленными. В советское время здесь было немало лесных поселков, а также исправительно-трудовых лагерей, обитатели которых занимались лесоповалом и сплавом леса к заводам. Транспортное сообщение было налаженным – летом по рекам Пи-неге и Мезени, зимой – по «зимникам». Реки из-за беспорядочных вырубок стали несудоходными и использовались только для сплава леса. Авиационный транспорт в 1970-е годы стал самым доступным и удобным, соединив райцентры не только с Архангельском, но и с крупными деревнями. В 1990-е годы местная авиация почти полностью исчезла, и поселения оказались отрезанными таким бездорожьем, которого здесь, пожалуй, никогда не было. В лучшем положении оказались только поселения по среднему течению Пинеги, куда была проложена железная дорога.
В другие места только зимой, на свой страх и риск, частники стали возить на «пазиках» пассажиров по дорогам, годным только для тракторов да лесовозов. С 2000х годов ситуация стала выправляться: сначала для пассажирских перевозок использовали «зимники», затем стали строиться автомобильные дороги, которые прерывались многочисленными переправами через речки. В настоящее время количество этих переправ неуклонно сокращается в связи с установкой понтонных, а через небольшие речки – и постоянных мостов. Это заметно улучшило быт местного населения, однако фактически означает экономическую капитуляцию: мосты перекрывают реки и сплав леса становится невозможным. Доставка леса автотранспортом существенно удорожает это сырье, делая лесопереработку нерентабельной. Ликвидированы ИПК, вымирают когда-то многолюдные поселки при леспромхозах. Однако деревня продолжает жить. Не смогли ее полностью уничтожить ни коллективизация, ни проводившаяся в 1970-е годы программа по ликвидации «неперспективных» деревень, ни «переход на рыночные рельсы» в 1990-е.
Для выяснения форм и способов коллективного самосохранения проживающего здесь населения были выбраны деревни со старожильческим русским населением, расположенные вдоль вновь устраиваемых автомобильных дорог. Именно здесь происходящие изменения отличаются наибольшей динамикой: сохранившиеся традиционные формы социальной жизни соседствуют со ставшими вдруг доступными «плодами цивилизации», которые были принесены дорогами и проложенными вдоль них волоконно-оптическими линиями, доставившими в деревню Интернет и мобильную связь.
Исследование уровня затребованности исторически сложившегося коллективного опыта в современных условиях проводилось путем интервьюирования населения с помощью специально составленного опросника. Респондентам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся их исторической памяти о существовавших формах внутри-общинной солидарности; о способах ее поддержания в 1990-е годы и на современном этапе.
Разумеется, полных аналогий ожидать было сложно – социальный опыт приобретает дифференцированные формы в зависимости от «вызовов» действительности. И вместе с тем разрушение сложившейся в 1970-е – 80-е годы социальной и экономической стабильности имело явное сходство с событиями послереволюционных лет начала ХХ века.
Восстановление утраченной стабильности кажется сомнительным в связи с хозяйственным упадком северной деревни, ее обезлюденьем как в естественно-демографическом отношении, так и в связи с усилением тенденции географической и социальной мобильности, которая из-за безработицы приобретает формы вынужденного «отхода». А также – в связи с бесперспективностью деревни в глазах экономистов и политиков. Однако деревня продолжает жить и, по мнению ее жителей и мигрантов-горожан в первом поколении, могла бы частично сохранить свой человеческий потенциал, если бы были рабочие места.
Пенсии, достаточно высокие в северных районах, пособия на детей и пособия по безработице, можно сказать, являются неплохим подспорьем для жителей деревни, если учитывать их минимизированные потребности. Активность малого бизнеса способствует возможностям заработка в летне-осеннее время путем организован- ных закупок грибов, ягод, других «даров природы». В меньшей степени, но все же затребованной остается продукция животноводства (молоко, мясо). Важным стимулом для производства продукции не только для собственного потребления, но и на продажу служит необходимость помогать первое время живущим в городе детям, а также определенная «мода» на улучшение деревенского быта. Ламинированные полы, пластиковые окна теперь обычны во многих традиционно крестьянских домах. Привычными становятся стиральные машинки, водяные насосы, позволяющие провести в дом водопровод; все чаще встречается местная канализация. Следует сослаться на исторически сложившуюся традицию северной деревни, когда образцы «городского» быта (до революции – это самовары, фаянсовая посуда, одежда и проч.; в позднесоветское время – городская мебель и планировка дома, постельное белье, настенные обои, крашеные полы) завоевывали вкусы населения быстрее, чем экономические и социальные инновации.
Современное распространение культурно-бытовых инноваций связано с воздействием внешней «моды». Это веяния не столько «города», сколько жизненных стандартов, приносимых с собой новыми «отходниками». Чаще всего это мужчины, которые, не желая уезжать из деревни, устраиваются работать вахтовым методом. Как правило, они хорошо зарабатывают и стремятся обустроить свою сельскую жизнь «на городской манер». Местные предприниматели (обычно из районного центра) быстро реагируют на подобные запросы и предоставляют необходимые товары и услуги. К сожалению, запросы бывают разные. В ряде деревень, где «отход» (выражаясь современным языком – «вахты») не распространен и мода на обустройство быта не привилась, сохраняется в большей степени потребность в спиртном, которое «по заказу» привозят также «бизнесмены» из ближайшего крупного населенного пункта.
Широкое распространение «вахт» ведет к значительному имущественному расслоению населения. Если в доме инициативный, деловой мужчина, семья предпочитает оставаться в деревне (даже если имеет городскую квартиру, в которой обычно живут взрослые дети); ее достаток высок, быт обустроен. В настоящее время для некоторой части мужчин работа есть и в деревне. Но кроме определенных профессиональных умений, которые обычно приобретены благодаря опыту городской жизни (знание электрики, механики, строительства), в этом случае необходим и определенный «первоначальный капитал» – трактор, автомобиль, катер, снегоход. Имея такую технику, сельский житель может взять у администрации подряд, например, на расчистку от снега дороги. Поскольку в районах практически отсутствует внутренний муниципальный транспорт, имеющие собственные катера и автомобили жители занимаются «извозом», доставляя «безлошадных» земляков в районный или областной центр – на вокзал, в поликлинику, за покупками.
Само собой разумеется, что в северной деревне наблюдается значительный половозрастной дисбаланс. По сравнению с 1970-ми годами, когда этот дисбаланс в условиях ускоренной урбанизации стал особенно проявляться, в современной деревне меньше людей старческих возрастов (их увозят в города родственники, одиноких нередко помещают в дома-интернаты), меньше детей. Хотя последние годы в связи с введением «материнского капитала» многие женщины, имеющие уже выросших детей, уехавших учиться в города, решились на рождение еще одного ребенка, поскольку без детей, по их словам, «в деревне скучно». И это превратилось в тенденцию: по словам информантов, мотивацией служат «материнский капитал», с помощью которого можно, например, помочь в приобретении жилья старшим детям, или льготы, предоставляемые государством и местной администрацией многодетным семьям.
Многие сельские жители хотели бы взять детей на воспитание или усыновление, однако в связи с отсутствием в их деревнях школ отделы опеки и попечительства их просьбы не удовлетворяют.
Сохраняется отмечавшийся в 1970-х годах значительный перекос в сторону превышения численности мужского населения. В 1990-е годы этот перевес усугубился возвращением из городов в родные деревни именно мужчин, которые оказались менее способными к адаптации в новых социально-экономических условиях. К тому же для мужчин жизнь в деревне привлекательнее, чем для женщин, которых она отталкивает тяжестью домашней работы и бытовым неустройством.
Сложившиеся обстоятельства создают проблему, вызванную сужением традиционных социальных контактов. Если молодежь, уезжая в города на учебу или работу, а также пользуясь Интернет-сайтами знакомств, может найти себе «пару», то для людей среднего возраста это затруднено. Вместе с тем в сельской местности одинокому человеку или неполной семье прожить сложно. Довольно распространено, когда женщины среднего возраста (одинокие, разведенные, вдовы) «берут в дом» мужчину, который выполняет всю необходимую мужскую работу. Когда такой мужчина «срывается» («запивает»), хозяйка его «выгоняет» и «принимает в дом» другого. Подобное трудно объяснить «распущенностью нравов» или потребительским отношением к мужчине-работнику. Можно сослаться на объяснение схожих процессов в среде ненцев-кочевников, сделанное этнологом А.В. Головневым: по его мнению, легкость семейных трансформаций – это способ социального маневрирования жителей относительно замкнутых социумов, направленных как на сбережение ценного семейного потенциала, так и на потребность избавиться от помех в этом отношении, решительно расторгнув неудачное брачное партнерство [9, с. 43].
Вместе с тем в деревнях много вполне «положительных» одиноких мужчин, не имеющих возможности привезти жену из другого места и не желающих при этом вступать в брак или сожительство с односельчанками, которые чаще всего являются родственницами, пусть и дальними. Прежняя брачная традиция нарушилась, и в настоящее время в деревню в результате вступления в брак чаще приезжают чужаки-мужчины, чем женщины. Случается, что потенциальный сельский «жених» знакомится с женщиной по переписке (по собственной инициативе или при помощи друзей и родственников); в таком случае женщины предпочитают увезти его к себе, чем перебираться в деревню, да еще чужую. Причина не только в тяжелых бытовых условиях, которые в первую очередь касаются женщин, но и в отсутствии женских заработков, без которых те не рискуют остаться, не особенно рассчитывая на своих мужей. Еще 15–20 лет назад, в условиях разрушения колхозно-совхозной системы, в деревнях сохранялась в основном женская оплачиваемая работа, связанная с услугами (продавец, фельдшер, учительница, почтальон, библиотекарь, клубный работник). Теперь соответствующие учреждения в малых поселениях закрыты. Работники образования стали «кузницей кадров» для местной администрации (глава и сотрудники сельской администрации, сельские старосты – в основном бывшие учителя). Централизация школьного и медицинского дела, учреждений социального обеспечения лишает деревню последних рабочих мест.
Благодаря плодам цивилизации, в первую очередь телевидению и Интернету, многие вопросы, касающиеся в том числе дополнительного образования для детей и даже элементарной медицинской помощи, люди решают сами. Почти в каждом доме есть тонометр для измерения артериального давления; уколы тоже «делают сами» (возможно, в действительности делают бывшие медработники, которые без лицензии не имеют права на осуществление этих процедур, и односельчане их «покрывают»). По словам жителей, просмотр телепрограмм на медицинские темы помогает им в постановке диагноза и производстве простейшего лечения.
Прически женщины «делают друг другу», мужчины пользуются машинками для стрижки. Почтовые услуги сейчас мало затребованы. Чаще пользуются телефоном, если есть связь – мобильным, а также скайпом. Письма передают адресату с оказией, без соблюдения формальностей.
Обычная в деревне помощь пожилым людям в отдаленных районах в рамках реализации «политики занятости» переходит на профессиональную основу. Взяв «на уход» четырех пожилых людей (в районах, приравненных к Крайнему Северу, – трех), такой помощник получает полную ставку «социального работника»; соответственно, если на попечении один человек, то оформление происходит на треть, на четверть ставки. Благодаря такому оформлению сельский житель трудоспособного возраста не теряет стаж, к тому же решается проблема помощи пожилым людям, которые не желают перебираться к родственникам или в интернат.
Торговля в отдаленных деревнях производится выездными лавками, и то не везде (если жителей в отдаленном и труднодоступном поселении мало, предпринимателю невыгодно направлять туда транспорт). В таких условиях многие обзаводятся хлебопечками; нужные продукты и промышленные товары «заказывают» односельчанам, выезжающим за покупками в город. В 90-е годы, когда стали закрываться торговые учреждения, ситуация напоминала конец XIX века, когда из однородной крестьянской массы стали выделяться торговцы. Сначала они брали на реализацию продукцию своих односельчан, привозя им по заказу нужные товары; затем стали доставлять в деревню мелким оптом то, что, по их мнению, можно было легко реализовать, и устраивали торговлю в своих домах. Затем уже появились «лавки» и «магазины». В советское время, после короткого периода архаизации в этом вопросе, торговля вновь была налажена – как государственная, так и от «потребкооперации». После ее прекращения здания магазинов пустовали из-за дороговизны аренды. Опять, как век назад, началась торговля «по заказам» и мелким оптом, а также «на дому».
В настоящее время сельская торговля находится в руках либо районной потребкооперации (где она сохранилась), либо частников. Отношение к последним в крупных поселениях негативное («кулачье, наживаются за наш счет»); в отдаленных деревнях положительное, поскольку предприниматели помогают населению реализовывать продукцию и завозят необходимые товары. В частных магазинчиках товары нередко дают «под запись». Если торговой точки нет, то торговля, в том числе обменная (особый запрос на ягоды, грибы, рыбу), ведется предпринимателем через «доверенного человека», как правило, проживающего в этой деревне родственника.
Торговля спиртными напитками находится под условным запретом: почти в каждой деревне есть актив, в основном из женщин и пенсионеров (формы могут быть разные: «женсовет», «совет ветеранов», ТОС – «территориальное общественное самоуправление»), который ставит препоны на пути бесконтрольной продажи водки.
С торгующими низкокачественным спиртным «в разлив» «шинкарями», которые имеются почти в каждой деревне, борются и другими способами. Например, упорно распространяются слухи, что все, кто занимается подпольной винной торговлей, «плохо кончают»: умирают от рака, погибают от несчастных случаев. Такие «страшилки» действуют не на всех – слишком велика прибыль от этого бизнеса. А официально справиться с «шинкарями» сложно. По информации сотрудника сельской администрации, удалось поймать такого с поличным, однако во время судебного разбирательства никто из жителей деревни не решился давать показания против своего соседа.
Элементы «круговой поруки» присутствуют в деревне и сейчас. Выявить конкретные случаи весьма сложно, так как население, руководствуясь как раз «круговой порукой», информацией не делится. Традиционно «покрывают» своих от сотрудников госавтоинспекции и рыбохотнадзора. Мелкие и бытовые преступления стремятся не доводить до сведения милиции. В отношении детей «беседуют с родителями». Если случаются драки в семье (муж поднимает руку на жену) – «беседуют» с виновником; иногда высказывают коллективное «презрение» – «не здороваются».
Социально опасные деяния, прежде всего кражи, совершенные взрослыми, как правило, социальному контролю уже не подчиняются, и приходится обращаться за помощью к милиции. В советское время незначительные преступления рассматривались «товарищескими судами», в случае более тяжких проступков практиковались выездные сессии суда, что отвечало запросам населения в открытости подобных процедур. Сейчас, однако, подобные апелляции к общественности не применяются; с другой стороны, присвоение чужого имущества становится уголовно наказуемым в случае стоимости украденного выше определенной суммы. Это создает сложности в тех поселениях, где имеются такие воришки: справиться с ними традиционными или административными мерами не всегда представляется возможным.
В некоторых деревнях, в том числе небольших, присутствуют неприязненные отношения между соседями, иногда принимающие открытые формы. Но дальше угроз дело не доходит. Как правило, групповое психологическое давление испытывают местные предприниматели, иногда «наделенные властью» лица – в тех случаях, когда, по мнению жителей деревни, они не действуют в общих интересах.
Если материальный достаток оказался выше благодаря помощи детей или вахтовой работе, сообществом это воспринимается нормально. Более того, все чаще отмечается стигматизация как раз неуспешных, «бедных» земляков. В некоторых случаях помощь (погорельцам, многодетным малообеспеченным семьям, престарелым) оказывается как индивидуальная, так и коллективная, как в ответ на просьбу о такой помощи, так и на основе традиционной солидарности. Что касается последнего, то здесь наблюдается гибкая трансформация помощи, которая еще недавно была обязательной и безвозвратной. В настоящее время у стариков есть деньги (пенсия, помощь городских родственников), государство финансирует оказываемую им помощь – и отношения переходят на «денежные» рельсы.
В условиях отсутствия должного контроля развиваются «неформальные» экономические системы, нередко построенные на принципах моральной экономики [28]. Это и получение дохода, не облагаемого налогом или не одобряемого местным сообществом (например, торговля спиртным); оказание взаимных услуг; распределение нарядов «по знакомству» (как правило, выгодный наряд на расчистку улиц или транспортные услуги получает муж или другой родственник старосты). Часто встречаются фиктивные безработные, получающие пособие и имеющие при этом доходные неофициальные занятия или прибыльное домашнее хозяйство. Следует отметить, что всё это виды деятельности, основанные на коллективном, иногда личном (в том числе приобретенном в городах) опыте.
Подытоживая сделанные наблюдения, следует сказать следующее.
Для русских характерна достаточно интенсивная интеграция в общенациональное пространство. Подтверждением тому служит тот факт, что малочисленное для огромных территорий население достаточно быстро, благодаря школьному образованию и особенно средствам массовой информации, утратило ярко выраженные диалектные особенности и региональнокультурную идентичность (что, например, присутствует благодаря культивации в куда более плотно заселенных странах, таких, как Германия, Франция, Великобритания). Вместе с тем групповые общности местного уровня сохраняются, что вызвано потребностями коллективного существования в условиях удаленного проживания. При этом, по мере усиления государственной поддержки, со стороны населения появляется все большее доверие к властным структурам и довольно легкий отказ от локальных форм жизнеобеспечения.
Своего рода модераторами между государством и населением становятся инициативные группы, состоящие в основном из наиболее авторитетных лиц старших возрастов и местной интеллигенции, которая по мере закрытия в малых поселениях школ, клубов и других обеспечивавших её работой учреждений, а также в связи со своими демографическими характеристиками (в деревнях остаются образованные люди пенсионного возраста) занимается активной общественной работой. Государство через различные структуры оказывает помощь таким инициативным группам, которые не столько влияют на изменение экономической жизни деревни, сколько поддерживают в ней социальный контроль и необходимый порядок.
Внешнее проникновение достаточно ограничено в настоящее время. Как правило, это предприимчивые люди, занимающиеся скупкой местной продукции, иногда для занятия бизнесом (это торговля, реже фермерство), что отвечает интересам населения. В тех деревнях, которые находятся близко к федеральным трассам и к относительно крупным поселениям, отмечается озабоченное отношение к пришлым элементам («раньше к приезжим относились хорошо, теперь – настороженно»); в отдаленных и труднодоступных местах отношение к ним в целом положительное.
Однако усиливающееся имущественное расслоение традиционно сплоченных обществ не может не вызывать обеспокоенность. Происходит оттягивание наиболее инициативных людей в города или на вне-деревенские заработки. Сопутствующий этому процесс индивидуализации ведет к отчуждению людей от общинных интересов. По мере ухода из жизни активных людей «старой формации» их функции могут перейти в руки остающихся в деревнях «субпассионариев».
По всей видимости, рассчитывать на местные локальные социумы, как на существующие в некоторых странах Европы «коммьюнити» (исторически сложившиеся и поддерживаемые на культурном и экономическом уровне социально-территориальные общности), в части выполнения функций, направленных на развитие жизненного сценария общины в целом, не приходится.
Зафиксированная автором общинная деятельность носит сугубо социальный характер, обусловленный традиционной солидарностью, основанной на соседских и родственных чувствах. Экономический «базис» сплоченности отсутствует; чтобы сохранить северную деревню, необходимо предложить населению конкретные формы коллективной хозяйственной деятельности.
Список литературы Стратегии и практики коллективного самосохранения населения северной деревни: исторический опыт и современные реалии
- Археография и источниковедение истории Европейского Севера РСФСР: тезисы выступлений на республиканской научной конференции, г. Вологда, 2-5 июня 1989 г. -Вологда: ВГПИ, 1989.
- Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта: от прошлого к будущему. -Т. 1: Социокультурная динамика России/А.С. Ахиезер. -Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. -804 с.
- Бабашкин, В.В. Россия ХХ века: о некоторых подходах современной западной историографии/В.В. Бабашкин//Куда идет Россия? -М., 1999. -Вып. 8. -С. 72-75.
- Безнин, М.А. Процесс капитализации в российском сельском хозяйстве 1930-80-х годов/М.А. Безнин, Т.М. Димони//Российская история. -2005. -№6. -С. 94-121.
- Бондаренко, Л.Б. Сельская Россия в начале XXI века (социальный аспект)/Л.Б. Бондаренко//Социологические исследования. -2005. -№11. -С. 69-77.
- Валеев, Ю.С. Большие проблемы маленькой деревни/Ю.С. Валеев//Социологические исследования. -2007. -№7. -C. 78-82.
- Великий, П.П. Сельская действительность (социологический ракурс)/П.П. Великий//Социологические исследования. -1996. -№10. -С. 35-42.
- Виноградский, В.Г. «Орудия слабых»: технология и социальная логика повседневного крестьянского существования/В.Г. Виноградский. -Саратов: Саратовский ин-т РГТЭУ, 2009. -292 с.
- Головнев, А.В. Кочевники тундры. Ненцы и их фольклор/А.В. Головнев. -Екатеринбург: УрО РАН, 2004. -344 с.
- Гудков, Л. Сельская жизнь: региональность пассивной адаптации/Л. Гудков, Б. Дубин//Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. -2002. -№6 (62). -С. 24-36.
- Карнаухов, С.Г. Аграрная реформа в одном селе/С.Г. Карнаухов, Н.А. Черемных//Социологические исследования. -2006. -№5. -С. 59-65.
- Карпов, С.Г. Процессы модернизации в российской деревне в последней трети XX -начале XXI века: монография/С.Г. Карпов. -Вологда, 2009. -184 с.
- Козлова, Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора/Н.Н. Козлова. -М.: Институт философии РАН, 1996. -215 с.
- Крестьянство. Новая философская энциклопедия /под ред. В.С. Стёпина. -М.: Мысль, 2000-2001. -URL: http://iph.ras.ru/elib/1542.html
- Lewin, M. Russian Peasants and Soviet Power. A Study of Collectivization. London, 1968 (в сокращенном переводе: Левин, М. Российские крестьяне и советская власть/М. Левин//Отечественная история. -1994. -№ 4-5).
- Левин, М. Режимы и исторические процессы в России XX в./М. Левин//Куда идет Россия? Социальная трансформация постсоветского пространства. -М., 1996. -С. 4-10.
- Левин, М. Советский век /М. Левин. -М., 2008. -680 с.
- Милов, Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса/Л.В. Милов. -М.: РОСПЭН, 1998. -576 с.
- Плюснин, Ю.М. Факторы развития местного самоуправления. Оценка значения изоляции и изоляционизма/Ю.М. Плюснин//Вопросы государственного и муниципального управления. -2008. -№3. -С. 38-50.
- Российская провинция и ее обитатели (опыт наблюдения и попытка описания)/С.Г. Кордонский, Ю.М. Плюснин, Ю.А. Крашенинникова, А.Р. Тукаева, О.М. Моргунова, Д.Э. Ахунов, Д.В. Бойков//Мир России. -2011. -Т. 20. -№1. -С. 3-33.
- Скотт, Дж. Оружие слабых: обыденные формы сопротивления крестьян (1985)/Дж. Скотт//Крестьяноведение: теория, история, современность: ежегодник. 1996. -М.: Аспект Пресс, 1996. -С. 26-59.
- Староверов, В.И. Результаты либеральной модернизации российской деревни/В.И. Староверов//Социологические исследования. -2004. -№12. -С. 64-74.
- Трошина, Т.И. Разрушение традиционной крестьянской культуры (по материалам историко-бытовых экспедиций Архангельского областного краеведческого музея)/Т.И. Трошина//Народная культура и музей под открытым небом. Проблемы сохранения и возрождения традиционной культуры: материалы международной научно-практической конференции, г. Архангельск, июнь 1997 г. -Архангельск, 2000. -С. 111-113.
- Трошина, Т.И. Крестьянские «самосуды» в революционную эпоху: актуализация коллективного опыта (на материалах северных губерний Европейской России)/Т.И. Трошина//Российская история. -2012. -№2. -С. 193-201.
- Флеровский, Н. (В.В. Берви). Положение работника на Севере/Н. Флеровский (В.В. Берви)//Дело. -1868. -№4.
- Эфендиев, А.Г. Современное российское село: на переломе эпох и реформ. Опыт институционального анализа/А.Г. Эфендиев, И.А. Болотина//Мир России. -2002. -№4. -С. 83-125.
- Шанин, Т. Об этнографической социологии Джеймса Скотта/Т. Шанин//Социология власти. -2012. -№4-5. -URL: http://socofpower.ane.ru/uploads/pdf/CV-maket(2).pdf
- Шанин, Т. Обычное право в крестьянском сообществе/Т. Шанин//Куда идет Россия?. Формальные институты и реальные практики/ред. Т.И. Заславская. -М.: МВШСЭН, 2002. -С. 267-274.
- Эйзенштадт, Ш. Цивилизационные измерения социальных изменений: структура и история/Ш. Эйзенштадт//Цивилизации. -1997. -Вып. 4. -С. 20-33.