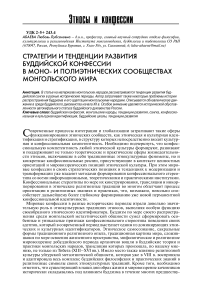Стратегии и тенденции развития буддийской конфессии в моно- и полиэтнических сообществах монгольского мира
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Этносы и конфессии
Статья в выпуске: 7, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье на материалах монгольских народов рассматриваются тенденции развития буддийской сангхи в разные исторические периоды. Автор затрагивает также некоторые проблемы истории распространения буддизма и его адаптации монгольскими народами. Описывается обновленческое движение в среде буддийского духовенства начала ХХ в. Особое внимание уделяется исторической обусловленности автокефального статуса буддийского духовенства России.
Буддийская конфессия, монгольские народы, тенденции развития, сангха, конфессиональная и культурная идентификация, буддийские школы и тенденции развития
Короткий адрес: https://sciup.org/170168003
IDR: 170168003 | УДК: 2-5+
Текст научной статьи Стратегии и тенденции развития буддийской конфессии в моно- и полиэтнических сообществах монгольского мира
С овременные процессы интеграции и глобализации затрагивают такие сферы функционирования этнических сообществ, как этническая и культурная идентификация и стратификация, в структуру которых непосредственно входят культурная и конфессиональная компетентность. Необходимо подчеркнуть, что конфессиональную компетентность любой этнической культуры формируют, развивают и поддерживают не только теоретические и практические сферы жизнедеятельности этносов, включающие в себя традиционные этнокультурные феномены, но и конкретные конфессиональные реалии, присутствующие в контексте ценностных ориентаций и мировоззренческих позиций этнической культуры. При этом мировые конфессии в своих стратегических позициях и тенденциях к модернизации и трансформации уже владеют методами формирования конфессионального стереотипа со всеми информационными, теоретическими и практическими институтами. Конфессиональные стереотипы по мере их конструирования, трансляции и инкорпорирования в этнические религиозные традиции во многом облегчают процесс ориентации в религиозных знаниях и практиках, что, возможно, невольно способствует дальнейшему более глубокому формированию уже новой перманентной конфессиональной идентичности.
Мировые конфессии в разные исторические периоды играли довольно значительную роль в этнокультурных традициях этносов, выполняя особую функцию своеобразного этнического идентификатора. Буддизм по мере своего распространения среди монгольской метаэтнической общности сумел сформировать особенные и уникальные признаки конфессионального стереотипа поведения своих адептов, который в современный период выступает одним из доминирующих этнических и культурных идентификаторов. Этническое самосознание, сакральные формы традиционного религиозного опыта, традиционная картина мира, сложившаяся по мере освоения жизненного пространства, мифологическое и религиозное мировоззрение добуддийского периода органично вошли в буддийские теории и практики монгольских народов, трансляция которых произошла, по нашему мнению, не только из Тибета (XIII–XVI вв.). Имело место также влияние религиозной культуры уйгурской метаэтнической общности, которая уже в VIII в. восприняла и адаптировала весь комплекс буддийских философских и практических знаний в религиозные символы своих этнокультурных традиций. Кроме того, необходимо отметить, что существующий в наши дни образ жизни и мировоззрение кочевников исторически складывались под влиянием буддизма в течение многих предшеству- ющих столетий. Этноконфессиональную картину монголосферы на протяжении более чем половины тысячелетия практически уже невозможно представить вне буддийской религиозной традиции [Абаева 2006].
Тибетская модификация индийской религиозной традиции Махаяны проникает на территорию Великой степи в XIII–ХVI вв. нашей эры. При этом эволюция буддийской религиозной культуры монгольской метаэтнической общности (хамаг монгол) в пространстве Великой степи, а также во временном континууме представляется нам уникальной и оригинальной, поскольку ее поступательные этапы по сравнению с религиозными культурами сопредельных территорий более разнообразны, подвижны и динамичны как в пространственном локусе своего обитания, так и в универсальном и локальном временном континууме.
Буддийская сангха (община) с времен своего возникновения, просветительской и миссионерской деятельности обладала определенными тактическими и стратегическими приемами. Формирование конфессионального стереотипа в векторе буддийской теории и практики предполагало, естественно, сопоставление буддийской религиозной системы с религиозными традициями и реалиями монгольских народов, поскольку исторически и генетически регион Центральной Азии представлял собой единый этнокультурный анклав. Именно в сопоставлении сходных параметров религиозных традиций буддийской теории и практики и их различий с феноменами автохтонных религиозных практик монгольских народов был заложен успех широкого распространения буддийской культуры среди всей монгольской метаэтнической общности. Буддисты, как «теоретики», так и «практики», прекрасно осознавали, что дхарма (учение) и сангха существуют в монгольском обществе в качестве специфического и уникального феномена в системе всей жизнедеятельности монгольского социума. На протяжении нескольких веков буддийская конфессия не только регулировала духовную сферу монгольских народов, но и в какой-то степени регламентировала их повседневное поведение и быт, объясняла мироздание, формировала мировоззрение и новые этические и эстетические ценности. При этом проникновение буддийской теории и практики происходило достаточно органично и поступательно. Возможно, это объясняется тем, что на первоначальном этапе, инкорпорируя в свою структуру локальные и региональные религиозные культы, буддисты-миссионеры не ставили основной задачей ознакомить новых адептов со всей сложной культурной и религиозной системой буддийской теории и практики. Но они проповедовали праведное поведение (накопление, «буян» – монг.), ведущее к хорошему перерождению, догматы о четырех благородных истинах, о деяниях и проповедях Будды. Они рассказывали об основных понятиях буддийской теории и практики: о карме (концепция причинно-следственной связи, соответственно которой плохой поступок неизбежно порождает плохие плоды и наоборот), сансаре (профанный мир реального существования, непрерывная цепь перерождений живых существ), нирване (запредельное духовное существование – противовес сансаре), деважине («чистая земля», сотворенная Буддой Амитабхой, но в популярном буддийском представлении – буддийский вариант рая)1. Почти при каждом буддийском монастыре Внутренней Монголии КНР, Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тывы наряду с печатанием буддийской классической канонической литературы издавались многочисленные дидактические сочинения, где в популярной форме комментировались основополагающие постулаты буддийской теории и практики. В результате на определенном этапе этнокультурной истории монгольских народов в структуре буддийской теории и практики фиксируются два вектора адаптации буддийской культуры – собственно монастырская (монашеская – с полным набором знаний) и народная – с набором наиболее популярных представлений о буддизме. Все это нисколько не умаляет и не дискредитирует народную форму буддизма. Данный феномен присущ всем мировым формам религии – и христианству, и исламу. Здесь важно то, что буддийская культура в этнокультурной истории монгольских народов выступила как феномен социальной консолида- ции, регуляции, мотивации и своего рода маркер их повседневной деятельности в системе жизнеобеспечения, став универсальным источником морали, нравственности, этических и эстетических ориентиров.
Необходимо отметить, что в истории буддизма существовали различные комментарии как самого учения Будды, так и способов и методов реализации пути спасения. Об этом свидетельствует наличие различных школ в буддийской теории и практике. Буддийская школа Карма была популярна среди монголов при Мунко-хане. Хан Хубилай, хотя сам тяготел к дзэн-буддийской практике, для своего народа остановил свой выбор на тибетской форме буддизма. В 1260 г. он приглашает пагба ламу – главу школы Сакьяпа, решив сделать буддизм религией всей своей империи, о чем свидетельствует его так называемый жемчужный указ. Пагба лама продолжительное время пребывал во дворце хана, транслируя буддийскую теорию и практику этническим монголам [Жамсран 1992: 99]. Для успешного понимания буддийской теории была составлена квадратная письменность, которая практически применялась мало, но осталась как одна из разновидностей в истории письменной культуры монгольских народов. В это же время Чойджи-Одсер корректирует монгольскую письменность на основе уйгурского письма, и на основе этой письменной традиции был переведен буддийский канон – Ганджур и Данджур. Однако не следует забывать при этом, что некоторые части «Лотосовой сутры» были известны монголам еще в VIII в. через тех же уйгуров – их перевод осуществлялся уйгурами непосредственно с китайского языка [Higuchi Koichi 2014: 20]. После падения династии Юань некоторую популярность среди монгольских народов имела школа Кармапа. Но наибольшую известность среди монгольской метаэтнической общности приобретает школа Гелугпа.
Еще в конце ХIV – начале ХV вв. известный тибетский монах Цзонкапа (монгольское и бурятское прочтение – Цзонхава), основываясь на учениях великих индийских, а также тибетских буддийских мыслителей, реформировал школу Кадампа («слова наставлений»), анонсировав при этом ее как хранительницу наиболее чистых форм первоначального учения Будды. В классическую буддийскую триратну – Будда, дхарма, сангха – вводится феномен ламы как наставника, учителя и посредника (своего рода медиатора) на сансарическом и трансцендентном пути адептов буддизма. Популярная тантра «Поклоняюсь Будде, поклоняюсь дхарме, поклоняюсь сангхе» приобретает четвертую феноменальную и приоритетную субстанцию – ламу. Мантра теперь звучит так: «Поклоняюсь учителю (ламе), поклоняюсь Будде, поклоняюсь дхарме (учению), поклоняюсь сангхе (общине)». Высоко подняв авторитет буддийских учителей, Цзонкапа потребовал от лам строгого соблюдения монашеской дисциплины, введя в сангхе обет безбрачия – целибат, реорганизовал монастырскую систему обучения и наставничества, ввел достаточно пышную храмовую обрядность, кодифицировал многие доктринальные обряды и ритуалы со строгой фиксацией иерархии пантеона будд и бодхисатв. Вскоре после реформ Цзонкапы из недр учения Кадампа появляется оригинальное учение Гелугпа (или Гелуг), завоевавшее лидирующее религиозное и политическое положение среди многих буддийских школ в теократическом Тибете. Цзонкапа почитается последующими адептами учения школы Гелуг не только как основатель этого учения, но и как великий лама, учитель и наставник. И как показывают дальнейшие исторические события, учение Гелуг именно в этой форме проникает и распространяется на территории Великой степи. Кстати, именно из-за введения в классическую триратну категории ламы немецкая востоковедная академическая наука ошибочно стала квалифицировать основанную Цзонкапой школу Гелуг как ламаизм, что впоследствии подхватили и некоторые российские и зарубежные исследователи.
Буддийские монастырские комплексы среди монгольской метеаэтнической общности становятся едва ли не единственными центрами просвещения, адаптации и трансляции (передачи) не только религиозных знаний и практик, но и этического светского образования. При монастырях работали целые коллегии переводчиков, переводившие с тибетского и китайского языков на монгольский как каноническую религиозную, так и светскую дидактическую литературу. Имена лам-философов
Л. Агван-Хайдава, З. Агван-Балдана, писателя и мыслителя В. Инжинаша и др. пользуются известностью далеко за пределами Монголии [Жугдэр 1978].
Однако по мере исторической эволюции буддийской теории и практики в пространстве монголосферы изменялись политические, экономические и социальные обстоятельства. Именно в эти исторические моменты буддийская конфессия в лице собственно этнических монголов проявляет уникальные по своей сути тенденции к сохранению основных теоретических постулатов, религиозных символов и ритуалов. С именем Агван-Хайдава связано появление термина «обновленчество» (монг. шинэтгээл – обновление) – движение за обновление буддийской церковной организации, которому суждено было сыграть значительную роль в истории буддизма среди монгольских народов [Абаева, Жуковская 1983]. Яркие представители монгольского обновленчества – Агван-Балдан, Данзан равжа, Дандараграмба – выдвигали ряд актуальных для того периода развития Монголии требований: перевод канонов буддийской литературы с тибетского на монгольский и отправление буддийских культов и ритуалов на монгольском языке; преподавание религиозных и светских дисциплин также на монгольском языке; отстранение лам высшей иерархии от мирских и государственных дел [Жугдэр 1978]. Необходимо отметить, что многие постулаты обновленческого движения монгольского духовенства халхи органично вошли в программы национально-освободительного движения монголов против маньчжурского засилья, за создание независимого государства, которое возглавили князья Б. Тохтохтор, М. Пурэвжав, Г. Цэрэнсантув и др. [Жугдэр 1978].
Вторая волна обновленческого духовенства фиксируется в начале ХХ в. и протекает внутри массового движения монгольского народа за автономию Монголии (1911–1912 гг.). Однако основные модернизационные моменты этого движения касались в основном проблем социокультурной адаптации буддийского духовенства к изменяющимся политическим и экономическим реалиям того времени. Кроме того, лидеры обновленчества заострили внимание на возврате к ранним каноническим нормам винаи – идеи нестяжательства, индифферентности и отстраненности от мирских событий буддийской сангхи в целом и отдельных ее монахов в частности при ежедневной готовности помочь буддийскому адепту-мирянину, ставшему на путь спасения.
В плане анализа типологических особенностей буддийского модернизма в разных странах и на разных этапах его развития большой интерес вызывает также тот факт, что обновленческое движение бурятского буддийского духовенства началось значительно раньше аналогичных движений в других буддийских странах – в конце ХIХ – начале ХХ вв. Кроме того, вероисповедные дела буддистов России после проведения границы 1727 г. занимали значительное место во внутренней и внешней политике царской администрации, что было обусловлено не только дипломатическими отношениями с Тибетом и Китаем, пограничным положением, широко развитой торговлей с Китаем и Монголией, но и традиционными религиозными связями бурятского, калмыцкого и тувинского буддийского духовенства с тибетскими и монгольскими буддийскими центрами. В этих центрах при огромных монастырских комплексах Урги, Лхасы, Сэра и Брэйбуна получали образование представители буддийского духовенства, оказавшиеся после проведения границы в полиэтническом и поликультурном пространстве Российской империи. Успешному продвижению обновленческих реформ не способствовало инокультурное и социокультурное православное окружение с другими ценностными императивами, внутри которого происходило буддийское обновленческое движение. Не секрет, что Русская православная церковь проявляла недовольство тем пристальным вниманием, которое царская администрация уделяла буддийскому духовенству в России1. Архивные документы свидетельствуют, что именно при участии и содействии царской административной системы формировалась автокефальная буддийская традиционная сангха Бурятии. Более того, положение буддийского духовенства и статус мирян – ее последователей получили юридическое оформление со стороны Российского государства. В начале ХVII в. государ- ство было крайне заинтересовано в сохранении мирных отношений с Китаем и потому запретило буддистам России иметь какие-либо связи с буддийскими центрами Монголии и Тибета «под страхом смертной казни»1. Савва Рагузинский, в 1728 г. составивший Инструкцию пограничным дозорам, ввел туда и постановление о буддийских монахах России, которое предусматривало автокефальный статус буддийского духовенства с собственной системой обучения и автономного развития. В то же время была учреждена верховная иерархическая должность пандидо хамбо ламы, руководящего всеми буддийскими монастырскими комплексами в Российской империи2.
Традиционная буддийская сангха России прошла сложный путь адаптации к соционормативным условиям в пространственно-временном континууме своего автокефального пребывания, трансформируя и модернизируя свою организационную структуру. Возможно, ХХIV Пандидо Хамбо Лама Дамба Аюшев прав в том, что последовательно придерживается тенденции автокефального развития традиционной буддийской сангхи России в современный период, т.к. в результате конкретных исторических и социальных процессов на территории этнической Бурятии, Калмыкии и Тывы в ХХ в., обусловивших иные условия развития буддийской культуры в локусе России, произошла некоторая трансформация ценностных императивов в развитии традиционной буддийской сангхи России.
Статья выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Буддизм в социально-политических и культурных процессах России, Внутренней и Восточной Азии: трансформации и перспективы». №14-18-004444.
Список литературы Стратегии и тенденции развития буддийской конфессии в моно- и полиэтнических сообществах монгольского мира
- Абаева Л.Л. 2006. Буддийская культура: инновации и традиции в эволюции религиозных верований монгольских народов. -Материалы международной научно-практической конференции «Мир буддийской культуры». П. Агинское
- Абаева Л.Л., Жуковская Н.Л. 1983. Традиция и модернизация в истории ламаизма. -Религии мира. История и современность. Ежегодник. 1983. М.: Главная редакция восточной литературы. С. 129-144
- Жамсран Л. 1992. Монголын туухийн дээж бичиг. Улаанбаатар
- Higuchi Koichi. 2014. How were Mongolian versions of the Lotus sutra translated, compiled and transmitted? Through examination of the Turfan fragments. -ALTAIC Studies in Interdisciplinary Research. Abstracts. Vladivostok
- Жугдэр Ч. 1978. Агванбалдангийн гун ухааны узэлю. Улаанбаатар
- Буддизм: словарь (под ред. Л.Л. Абаевой и др.). 1992. М.: Республика. С. 286.
- Центральный государственный исторический архив Ленинграда (ЦГИАЛ). Ф. 821. Оп. 8. Д. 1126.
- Там же. Д. 1159.
- Там же. Д. 1139.