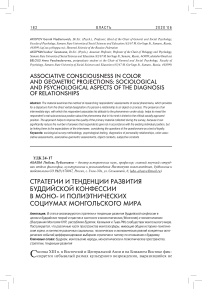Стратегии и тенденции развития буддийской конфессии в моно- и полиэтнических социумах монгольского мира
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 6, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются стратегии и тенденции развития буддийской конфессии в целом и буддийских теорий и практик в частности в моноэтнических (Монголия) и полиэтнических (Внутренняя Монголия КНР, республики Бурятия, Калмыкия и Тыва РФ) сообществах монгольского мира. Постулируется, что различные части пространства монголосферы, имеющие общие историко-генетические корни, в контексте различных социальных, политических и экономических реалий конкретных исторических событий дифференцировано выбирали стратегию и тактику по отношению к буддийской конфессии.
Буддизм, монгольские народы, моноэтническое и полиэтническое пространство, стратегии, тенденции развития
Короткий адрес: https://sciup.org/170171253
IDR: 170171253 | УДК: 24-17 | DOI: 10.31171/vlast.v28i6.7775
Текст научной статьи Стратегии и тенденции развития буддийской конфессии в моно- и полиэтнических социумах монгольского мира
Взаимоотношения между светскими и духовными представителями мон-голосферы кодифицировались и регулировались кодексом, который именовался «двумя законами», или «двумя принципами власти», в векторе которого основная идея признавала преимущественные духовные позиции буддийского лидера над светским правителем, оставляя за светским правителем государственные политические функции. В соответствии с этой доктриной религиозный духовный лидер и светский правитель тибетской и монгольской этнических общностей довольно органично разделяли сферы своей деятельности. «Провозглашение буддизма государственной религией монгольского государства вызвало большие изменения в идеологии кочевников», – акцентирует академик Ш. Бира. «Хотя центр Монгольской империи располагался в Китае, официальная идеология была заимствована у древней индийской религии», – подчеркивает он. Так, например, по его данным, всемонголь-ский хан Хубилай был признан новыми адептами буддизма земным воплощением (перерожденцем) знаменитого Ашоки [Бира 2011: 81].
Именно с этого времени в стратегии монгольских правителей появляется феномен дуумвирата – «наставник-покровитель», выражавший союз и совместное управление великих ханов и высших буддийских монахов. В контексте дуумвирата разделялись светские и религиозные функции, именуемые «два порядка», где Лама (буддийский монах) ассоциируется с основателем Учения – Буддой, а Правитель – с «чакравартином» – идеальным буддийским монархом, владеющим континентами или их частью с большим числом подданных. В отношении правителей династии Юань здесь подразумевалась власть от Дальнего Востока до Каспийского моря, т.е. практически власть над существующим тогда миром.
После падения династии Юань по истечении локальных притязаний на конкретные территории на политической арене появляется династия Цин. Монгольская традиция периода Цин относилась к собственно Китаю (Хятад Улс) как Срединному государству (Дундад Улс), в то время как империю Цин они именовали Маньчжурским Цинским государством (Манж Чин Улс, Манж Улс, Чин Улс) [Позднеев 1896: 567].
Маньчжуры (потомки чжурженей) – это этнос тунгусского происхождения, автохтонно населявший лесные массивы Восточной Азии, принадлежащий, как и монголы и тюрки Центральной Азии, к общей алтайской языковой семье. Присоединив к себе, начиная с 1627 г., основные племена Южной Монголии и пользуясь присутствующей в то время враждой между монгольскими князьями в борьбе за власть, маньчжуры подавляют в 1634–1635 гг. их северных и западных сородичей и в первой половине XVII в. предпринимают попытку завоевать ослабленный Чингизидами Китай. В 1644 г. они основывают последнюю не ханьскую императорскую династию Цин, правящую вплоть до 1911 г., используя при этом практически всю атрибутику и символику империи Юань, вплоть до копирования их печати. Еще в период 1610–1640-х гг. маньчжуры подхватили теорию дуумвирата и окончательно укрепили ее в годы своего правления, открыто претендуя на непосредственную преемственность от империи Юань. В Цинский период адептами буддизма становятся тюркоязычные тувинцы, адаптировавшие буддийские идеи и практики в составе Урянхайского края и являющиеся практически единственным современным тюркоязычным этносом, который является адептом буддизма.
Дальнейшие стратегии правящих династий монгольского мира фикси- руют перманентные взаимоотношения с различными буддийскими школами Тибета. Однако уже в XVI в. во взаимоотношениях правителей и буддийского духовенства (дуумвирата) наступает окончательная определенность в выборе традиции из множества вариаций буддийских школ, существовавших в Тибете. С этого момента они ориентированы на буддийскую традицию школы Гелуг, основателем которой считается Чже Цзонхава.
С именем Цзонхавы связаны значительные преобразования в тибетских вариациях буддизма. Так, Цзонхаве удалось объединить в своем учении достижения всех философских школ индийского буддизма, существовавших до него. При этом ему удалось совместить практические методы духовного совершенствования человека и спасения «живых существ» от страданий, которые использовались в основных направлениях («колесницах») буддизма: хинаяне («Малая колесница»), махаяне («Большая колесница»), ваджраяне («Алмазная колесница»). Цзонхава также восстановил строгие нормы и правила морального поведения, установленные для монахов в своде дисциплинарных правил (Виная) еще при жизни Будды, но ко времени его деятельности пришедшие в упадок. Символом возрождения строгих моральных норм раннего буддизма стал желтый цвет, преобладающий в головных уборах и одеяниях монахов школы Гелуг, поскольку в Древней Индии люди, вступающие на путь освобождения от мирских страстей и желаний, препятствующих духовно-нравственному совершенствованию и просветлению, надевали на себя выброшенное за ненадобностью, выгоревшее на солнце пожелтевшее тряпье. Возможно, это было одной из причин названия Гелуг «желтошапочной школой», «желтой верой», хотя мы неоднократно писали и о других тенденциях [Абаева 2008: 42].
Фундаментальной основой «легитимации цинской власти для монголов было покровительство тибетскому буддизму и концепция ее преемственности от власти Чингисхана», – утверждает С.Л. Кузьмин [Кузьмин 2016: 430]. Используя в политических целях «следование тибетскому буддизму и отношениям “наставник-покровитель” с высшими иерархами одной из его школ, – продолжает далее автор, – буддизм был принят населением [Цинь] как главная религия в Тибете раньше, чем в Монголии» [Кузьмин 2016: 430].
Широкая проповедническая деятельность во Внутренней Монголии ( Овер Монгол) и Внешней Монголии (Гадад Монгол, совр. назв. – Монгол Улс) относится к началу XVI–XVII вв. Популярный современный термин «Внутренняя Монголия» монголы практически не употребляли. Определяя ее территориальное расположение, они использовали свою традиционную пространственную ориентацию, называя ее Овер Монгол, т.е. Передняя Монголия, а территорию, насельниками/кочевниками которой являлись буряты, – Ара Монгол (Северная Монголия) [Бира 1974: 217]. В свое время буряты (в современный период – Республика Бурятия – Буряад Улас) носили этноним «бурят-монголы» и территориально относились, как справедливо констатирует монгольский академик Шагдарын Бира, к Ара-Монгол.
«К первым монгольским проповедникам [имеется в виду Внутренняя Монголия. – Авт.], – пишет бурятский исследователь-монголист М.В. Аюшеева, – следует отнести ойратского Зая-пандиту, I Джебдзундамба-хутухту, Нейджи-тойна и его последователей, Чаган-даянчи, Эрдэни-пандиту и др. В то время из Тибета в Монголию прибывало много лам – представителей разных тибетских школ буддизма: кармапа, сакьяпа, гелукпа» [Аюшеева 2008: 100-101]. Далее автор подчеркивает, что «монголы не оказывали предпочтения тому или иному направлению тибетского буддизма. Но со временем главенство остается за желтошапочной традицией – гелукпа, и постепенно монгольские феодалы начинают борьбу по искоренению других школ тибетского буддизма в монголь- ских степях. Тибетские высшие ламы традиции гелукпа были заинтересованы в распространении именно своей формы тибетского буддизма, потому использовали авторитет монгольских хутухт и ученых лам» [Аюшеева 2008: 100-101].
Известный монголист А. Цендина резюмирует, что в XVII–XIX вв. в монгольском мире окончательно сформировалась идея, что Чингисхан стал (и был) покровителем буддизма. Происхождение Золотого рода Чингиса от мифического древнеиндийского царя (поскольку исторически буддизм возникает в Индии) Махасаматы («Многими Возведенного») прочно вошло в традицию монгольских летописей XVII–XIX вв. [Цендина 2007: 39, 125, 139].
Тенденция «неукоснительного» подчинения буддийской конфессии Бурятии в полиэтничной и поликонфессиональной Российской империи и пристальное внимание со стороны различных департаментов выразились в удивительной идее, что российская императрица Екатерина II является эманацией (перевоплощением, перерождением) Белой Тары, очень популярного буддийского женского божества в этнической Бурятии (все продолжающаяся идея дуумвирата!?).
Новая стратегия в адаптации буддизма среди монголов и ойратов началась в конце XVI в., считает также и калмыцкий буддолог и антрополог Э.П. Бакаева. К этому времени монгольские кочевья представляли собой достаточно разрозненные княжества. Власть так называемых монгольских ханов не была практически реальной. «По монгольским источникам, – пишет автор, – первым вступили в контакт с руководителями буддийской конфессии в Тибете руководитель Ордоса – Сэцэн-хунтайджи и Алтан хан Туметский. Теоретическое положение о союзе хана как главы государства и буддийского иерарха как “владыки учения” нашло воплощение в союзе Алтан-хана и Соднам-Джамцо (опять же дуумвират), которого светский правитель наделил титулом “Далай лама”, объявив себя патроном школы Гелуг. Почти одновременно с Алтан-ханом буддизм был принят и в Северной Монголии представителями халхи, а вскоре и в западной Монголии ойратами» [Бакаева 2008: 163].
Калмыки (часть дурбен ойратов, Джунгария), современные насельники европейской части России (Калмыкия – Хальмг Тангч), приобщились к буддизму еще до того, как прибыли в 1640-х гг. из Джунгарии в низовья Волги и Дона. В образованном ими Калмыцком ханстве в 1640 г. было принято Великое уложение (Ики Цааджин бичиг) – свод ойратских законов, в котором были определены иерархия буддийского духовенства и правила поведения монахов [Бакаева 2008: 165]. Небезынтересно, что именно на территории Российской империи и до настоящего времени в конфессиональном отношении наблюдается определенная тенденция их самостоятельного определения; калмыки не подчинялись Хамбо ламам Восточной Сибири и даже позже – Центральному духовному управлению буддистов СССР, исторически соотнося себя как адептов буддизма именно с Далай ламами, при этом активно участвуя в различных организационных и конфессиональных мероприятиях буддистов Российской империи, бывшего СССР и нынешней РФ.
На наш взгляд, сознательный стратегический выбор буддийских идей и практик, приобщение к философским и культурным ценностям и святыням буддизма способствовали дальнейшему этнокультурному и конфессиональному развитию монголосферы. Как мировая религия буддизм значительно способствовал расширению инструментальных, инкультуративных, нормативных, сигникативных, познавательных, психологических и коммуникативных страт всей монголосферы.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИМБТ СО РАН по проекту XII.191.1.3. «Комплексное исследование религиозно-философских, историко-культурных, социальнополитических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и стран Центральной и Восточной Азии», номер госрегистрации № АААА-А17-117021310263-7.
Список литературы Стратегии и тенденции развития буддийской конфессии в моно- и полиэтнических социумах монгольского мира
- Абаева Л.Л. 2008. История формирования этноконфессиональной ситуации в Бурятии. - Религия в истории и культуре монголоязычных народов России (сост. и отв. ред. Н.Л. Жуковская). М.: Восточная литература. С. 37-58
- Аюшеева М.В. 2008. Распространение буддизма во Внутренней Монголии: деятельность Нейджи-тойна (1557-1653) и его учеников. - Гуманитарный вектор. № 3. С. 100-107
- Бакаева Э.П. 2008. Калмыцкий буддизм: история и современность. - Религия в истории и культуре монголоязычных народов России (сост. и отв. ред. Н.Л. Жуковская). М.: Восточная литература. С. 161-201
- Далай Ч. 1983. Монголия в XIII-XIV веках. М.: Наука. 213 с
- Кузьмин С.Л. 2016. Теократическая государственность и буддийская церковь Монголии в начале XX века. М.: Товарищество научных изданий КМК. 496 с
- Позднеев А.М. 1896. Монголия и монголы. Результаты поездки в Монголию, исполненной в 1892-1893 гг. СПб: Типография Императорской Академии наук. 623 с
- Ру Жан-Поль. 2006. История Империи монголов (пер. с франц. З.З. Сажиновой). Улан-Удэ. Изд-во Бурятского госуниверситета. 665 с. (Издана на языке оригинала в Париже в 1993.)
- Цендина А.Д. 2007. Монгольские летописи XVII-XIX веков: повествовательные традиции. М.: Изд-во РГГУ. 389 с
- Бира Ш. 1974. Концепция верховной власти в историко-политической традиции монголов. - Studia Historica Instituti Historiae Academiae Scientarum RP Mongoliae. Т. 10. Fasc. 5
- Бира Шагдарын. 2011. Монголын Тэнгэрийн Узэл. Mongolian Tengerism. Туувэр Зохиол, баримт бичгууд: selected papers and documents. Улаанбаатар. 482 с