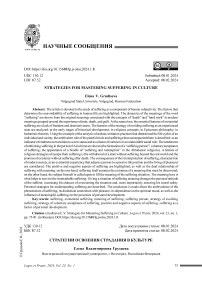Стратегии освоения страдания в культуре
Автор: Грудцева Е.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию страдания как составляющей человеческой субъективности. Выделены факторы, обусловливающие неустранимость страдания из человеческой жизни. Показана динамика значений слова «страдание» от исходных смыслов, связанных с концептами «смерть» и «тяжелая работа», до современных значений, группирующихся вокруг переживания боли, смерти и вины. При этом сущностными чертами экзистенциального страдания являются несвобода и деструктивность. Проанализированы особенности стратегии избегания страдания как переживаемого состояния: на ранних этапах исторического развития; в религиозных концепциях; в философии эпикурейцев; в гедонистических теориях. На примере анализа архаических практик инициации, определявших жизненные циклы индивида и общества, описана амбивалентная роль сопровождавших их мучительных испытаний и страданий: как показателя готовности к переходу к новому статусу и как фактора принуждения к нежелаемой социальной роли. Показаны тенденции переосмысления страдания в период Осевого времени (формирование «человека страдающего»; добровольное принятие страдания; появление связки «страдание - искупление» в авраамических религиях). Особенностью религиозных стратегий бегства от страдания является выведение бесстрадательного состояния за пределы посюстороннего мира и обещание бесстрадательного существования после смерти. Рассмотрены последствия характерного для современного общества переосмысления страдания как экзистенциального переживания, настраивающего личность на пассивную жизненную позицию и проживание удовольствий. Выделены положительные и отрицательные аспекты страдания, а также двойственная связь страдания со смыслом: с одной стороны, в самом страдании предполагается наличие смысла, который подлежит обнаружению, с другой - субъект сам призван наполнить смыслом ситуации страдания. Смысл здесь является тем, что помогает пережить неустранимое страдание. Наделение ситуации страдания смыслом меняет личностный настрой страдающего, повышая его шансы на преодоление ситуации и, что более важно, обеспечивая его нравственную сохранность. Описаны личностные стратегии осмысления страдания. Сделан вывод об амбивалентности феномена страдания, его диалектической связи с удовольствием, его зависимости от духовного настроя, а также о влиянии осмысленного страдания на процессы личностного развития.
Страдание, экзистенциальное страдание, смысл страдания, человек страдающий, стратегия избегания страдания, стратегия добровольного принятия страдания, позитивный и негативный аспекты страдания, страдание как фактор личностного развития
Короткий адрес: https://sciup.org/149145699
IDR: 149145699 | УДК: 130.12 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.1.8
Текст научной статьи Стратегии освоения страдания в культуре
DOI:
Цитирование. Грудцева Е. В. Стратегии освоения страдания в культуре // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 1. – С. 75–81. – DOI:
Страдание – неотъемлемая составляющая человеческой субъективности, присутствие которой в человеческом бытии обусловлено тремя факторами: во-первых, наличием у человека тела, способного испытывать боль; во-вторых, наличием у человека осознанных потребностей и вытекающей отсюда способностью испытывать болезненное чувство нехватки, отсутствия, потери, разлуки или утраты; в-третьих, наличием у человека стремления к мечте и идеалу и способности к переживанию недостижимости, неосуществимости желаемого.
Исходные смыслы слова «страдание» группируются вокруг двух значимых концептов: смерти , на связь с которой указывает происхождение слова «страдание» от индоевропейского корня глагола «коченеть», «становиться жестким», и тяжелой работы («страды», «старания») [Грицков 2019, 49]. В языке современного человека страдание указывает на переживания, связанные с «трагической триадой» – болью, смертью и виной [Франкл
2018]. А. Лэнгле, определяя сущность страдания, отмечает его несводимость ни к ощущению негативного и неприятного, ни к чувству бессмысленности, придающему болезненность нашему опыту. Страдание, согласно А. Лэнгле, характеризуется двумя основными чертами. Во-первых, оно является чувством, сопровождающим только несвободное действие: «Сам факт, что мы делаем что-то добровольно, исключает момент страдания. <...> Добровольность лишает страдание его жала» [Лэнгле 2016, 26]. Во-вторых, неприятные чувства становятся страданием, если они носят деструктивный характер.
В ходе исторического развития в культуре сформировались различные формы осмысления страдания и стратегии его освоения.
Страдание как претерпеваемое состояние и стратегии его избегания. Уже для ранних периодов истории характерно переживание страдания как чувства «экзистенциального дискомфорта», связанного со стра- хом смерти. Причинная связка «страдание – отчаяние – обреченность – смерть» актуализирует архетипические программы избегания страдания и последующих поисков путей к «бесстрадательному» состоянию [Грицков 2006, 8].
Историки и этнографы в своих исследованиях традиционно фокусировали внимание при изучении социальных практик прошлых эпох на ритуалах и обрядах, а не на чувствах и переживаниях индивидов, справедливо полагая, что «нам гораздо больше известно о том, что в прошлом люди делали, чем о том, что они чувствовали» [Головашина 2017, 21]. Однако несомненно, что страдание во всех его формах (боль, страх, тревога, ужас, отчаяние) играли огромную роль в жизни наших предков. Показательны в этом отношении ритуалы инициации, определявшие жизненные циклы индивида и общества. Инициация выступала механизмом качественного изменения идентичности. Это могли быть процессы включения в закрытое сообщество, перехода из одного статуса в другой или перехода из одной возрастной группы в другую. Все они сопровождались испытаниями, неотъемлемой частью которых было страдание. При этом страдание было не только длящимся состоянием, которое инициируемому необходимо было претерпеть (боль, голод, одиночество, страх); также оно выступало способом принуждения человека к принятию нового статуса. Примером этому могут служить практики инициации шаманов, выступавших центральной фигурой в религиозной жизни архаических сообществ и обеспечивающих посредничество между миром духов и миром людей. Так, в исследованиях В.И. Вербицкого описывается получение шаманского дара у народов Сибири и Алтая, сопровождающееся принуждением и мучительством: кам (шаман) «никогда не принимает этой должности добровольно», но получает ее «как болезнь», причем «противится волею и умом принятию». Испытывая мучительные нападения «духа предка», он страдает и сопротивляется, «чтобы не делать того, к чему побуждается», и в случае упорного отказа делается «безумным, или уродом, или замучивается и умирает...» [Вербицкий 1893, с. 44]. Аналогично характеризует этот процесс В.В. Радлов: «Шаманская сила приходит... внезапно, как болезнь, которая охватывает всего человека», и продолжается долго, иногда несколько лет, так как обычно заболевший упорно противится принятию служения; «но слыша все время во сне и во время припадков приказание камлать, угрозу задушить и обещание, при условии согласия, выздоровления, больной измученный, напуганный, соглашается в конце концов камлать, – и выздоравливает» [Радлов 1989, 367].
Религиозные стратегии бегства от страдания выводят бесстрадательное состояние за пределы посюстороннего мира и обещают бесстрадательное существование после смерти. Особую форму и значимость стратегия бегства от страдания получила в буддизме, в котором признание неустранимости страдания из бытия (действительности) заставляет человека бежать от самого бытия. Появление в авраамических религиях связки «страдание – искупление» базируется на механизме трансформации травмирующего экзистенциального переживания страха смерти. «Чтобы защититься от этого травмирующего знания, психика субъекта мобилизует все имеющиеся ресурсы и переходит в режим метапереживаний – начинает продуцировать предельно интенсивные мыслеобразы, которые субъект воспринимает как некие сверхважные явления и события, имеющие своим источником нечто находящееся за пределами самого субъекта» [Грицков 2006, 16]. Все мировые религии так или иначе признают существование бесстрадательной сверхреальности, доступ к которой обеспечивается искупительной жертвой, покаянием, добродетельной жизнью и т. д. В ретроспективе искупительной жертвы Христа и перспективе посмертной участи души этот страх дополняется чувством вины (греховности), запускающим программу поведения, включающую соответствующие компенсаторные механизмы (покаяние) и вожделенную цель (прощение, помилование). При этом страх смерти никогда окончательно не отпускает человека, приобретая только новые формы. Вот почему К. Ясперс пишет, что за всяким страданием стоит смерть.
Философски обоснованную стратегию избегания страдания разработали эпикурейцы. В качестве идеала они утверждали стремление к атараксии – состоянию, свободному от страданий, душевных тревог и страхов. Это состояние определяется как «удовольствие покоя», оно не связано с движением чувств, но по ценности превосходит чувственные удовольствия и рассматривается в качестве высшей жизненной цели – достижения состояний безмятежности духа и радости. Предлагаемая эпикурейцами стратегия избегания страданий учитывает, таким образом, диалектическую связь между страданием и удовольствием, каждое из которых может обернуться своей противоположностью. Соответственно, человек не должен избегать страдания, которое может предварять большое удовольствие. Неотделимость друг от друга страдания и удовольствия составляет основу критики гедонистического подхода у Ж. Батая: погружаясь в удовольствия, человек страдает от их последствий, но лишенный удовольствия, он испытывает усиливающееся страдание от желания получить его [Токарев 2022, 71].
В современном обществе избегание страдания превращается в экзистенциальную установку, настраивающую личность на пассивную жизненную позицию и проживание удовольствий [Лапатин 2018]. Между тем «именно проживание этих установок приводит к формированию экзистенциальных синдромов дефицита: дефицит, а затем утрата смысла и дефицит исполненности жизни, неаутентич-ность бытия в связи с нарушением фундаментальной ценности» [Попова web]. Раскрывая положительную сторону стратегии избегания страдания, В. Франкл акцентирует внимание на том, что стремление освободиться от страдания не означает, что оно бессмысленно: «Страдая от чего-либо, мы внутренне отодвигаемся от того, что вызвало наши страдания, мы как бы устанавливаем дистанцию между собой и этим нечто. Все время, пока причиной нашего страдания является то, чего быть не должно, мы остаемся в состоянии напряжения, как бы разрываясь между тем, что есть в действительности, с одной стороны, и тем, что должно быть, – с другой. И только в подобном состоянии мы способны сохранять в своем представлении свой идеал» [Франкл 1990, 223].
В эпоху, названную К. Ясперсом Осевым временем, в культуре формируются стратегии осмысления и добровольного принятия страдания и происходит становление «человека страдающего».
Рефлексия страдания как основа личностного становления является наиболее сложной стратегией осмысления страдания, поскольку речь здесь идет о страдании как экзистенциальном переживании. Формируются связки «страдание – искупление» и «страдание – обретение смысла». Н.А. Касавина указывает на амбивалентность экзистенциального опыта, отражающего противоречивый процесс и результат становления личности. Отрицательный модус этого опыта выражается в страхах, страданиях и тревогах, играющих, однако, важную роль триггеров, запускающих процесс пробуждения экзистенции [Касавина 2016, 54]. Именно страдание открывает путь к переживанию осмысленности жизни, ощущению ее полноты и целостности: «В страдании есть особый смысл пробуждения личности» [Касавина 2016, 63].
Связь страдания со смыслом реализуется в двух основных планах. С одной стороны, в самом страдании предполагается наличие смысла, который подлежит обнаружению, с другой – субъект сам призван наполнить смыслом ситуации страдания. Смысл здесь является тем, что помогает пережить неустранимое страдание. Наделение ситуации страдания смыслом меняет личностный настрой страдающего, повышая его шансы на преодоление ситуации и, что более важно, обеспечивая его нравственную сохранность.
Страдание может также рассматриваться как условие и путь к исправлению ситуации, причины и последствия которой находятся фактически испытываемого за пределами страдания. В этом случае связка «страдание – искупление» придает страданию смысл (в том числе помещаемый в долгосрочную историческую перспективу), благодаря чему у субъекта не только возрастает «ресурс терпения» и повышается «порог страдания», но и появляется возможность переплавлять его в позитивное (конструктивное) чувство. «...Даже трагические и негативные аспекты жизни, в том числе неизбежное страдание, могут обратиться в достижение благодаря той позиции, которую человек займет по отношению к своему несчастью» [Франкл 2018].
Сформировавшиеся в рамках христианства личностные стратегии осмысления страдания нашли отражение в священных текстах, в предании, в народной культуре и художественном творчестве. Примером сочетания этих смыслов может служить осуществленная С.С. Аверинцевым в формате духовного стиха реконструкция мысленной молитвы благочестивого разбойника как «образцового страдальца» [Марков 2020]. Плодом медитации разбойника о страданиях стало дерзновение обратиться к Христу, с которым он разделяет мучение, с неслыханной просьбой. Общность мучения и разделяемая невыносимая боль инициируют личный порыв и личную решимость, которые открывают благочестивому разбойнику дверь в новую жизнь [Марков 2020, 94]. Эта новозаветная история говорит человеку о том, что Бог считается с перенесенным человеком страданием, сопряженным с правильным духовным настроем, и оно может стать очистительным и спасающим. В христианстве этот настрой определяется через образ и понятие креста. «Крест, конечно, устранен не будет. Люди страдают и будут продолжать страдать. То, что нам угрожает, – это потерять правильное расположение сердца по отношению к кресту: воспринимать тяготу как обиду со стороны других людей, недуги – как ошибки и дурную работу врачей, самую смерть – как медицинскую ошибку. Да не будет с нами этого. Да не согласится человек отдать самое высокое достоинство, ему предоставленное, самую светлую возможность причастности к царственному кресту Христову». Крест – это неоскверненное грехами место, «место чистого страдания», а принятие креста – «согласие страдать самому и неприятие неправды мира, отторжение греха и прощение грешника» [Аверинцев 1993].
Различные стратегии освоения страдания свидетельствуют об амбивалентности этого феномена. Страдание всегда относительно, диалектически связано с удовольствием и часто обозначается синонимично понятиям с положительной коннотацией (например, «страстно желать» означает «страдать от нехватки / отсутствия» объекта желания). Следовательно, дело в отношении к страданию, в настрое, которым сопровождается его переживание, в осмыслении его причин, последствий и целей. Наиболее сложными и эффективными стратегиями преодоления страдания как экзистенциального дискомфорта являются программы поиска смысла страдания (включая поведенческие модели мировых религий, наделяющих страдание смыслом). Страдание может быть плодотворным при условии, что связанный с ним экзистенциальный диссонанс побуждает человеческую личность к преобразованиям, направляя энергию физического, психического и духовного напряжения на личностное развитие.
Список литературы Стратегии освоения страдания в культуре
- Аверинцев 1993 – Аверинцев С.С. Слово в неделю Крестопоклонную. Проповедь во Владимирском соборе б. Сретенского монастыря, произнесенная 21 марта 1993 г. // Православная община. 1993. № 13–15. С. 45–48.
- Вербицкий 1893 – Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. Сборник этнографических статей и исследований алтайского миссионера, протоиерея В.И. Вербицкого, изданное Этнографическим отделением Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при Московском университете / под ред. А.А. Ивановского. М.: Товарищество Скоропечатни А.А. Левенсон, 1893. 221 с.
- Головашина 2017 – Головашина О.В. Короткая память: представления о прошлом в условиях современной темпоральной трансформации.
- Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017. 118 с.
- Грицков 2019 – Грицков Ю.В. Страдание как сущностное свойство человеческой ситуации // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2019. Т. 3, № 1. С. 49–54.
- Грицков 2006 – Грицков Ю.В. Феномен страдания и способы его освоения в культуре: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Омск, 2006. 33 с.
- Касавина 2016 – Касавина Н.А. Экзистенциальный опыт: отчаяние и надежда // Философские науки. 2016. № 10. С. 54–67.
- Лапатин 2018 – Лапатин В.А. «Умножая скорбь»: страдание как оборотная сторона «гедонистического императива» современности // Человек. Культура. Образование. 2018. № 4 (30). С. 30–45.
- Лэнгле 2016 – Лэнгле А. Почему мы страдаем? Понимание, обхождение и обработка страдания с точки зрения экзистенциального анализа // Национальный психологический журнал. 2016. № 4 (24). С. 23–33.
- Марков 2020 – Марков А.В. Точка зрения в «Стихе о благоразумном разбойнике» С.С. Аверинцева // Ученые записки Орловского государственного университета. 2020. № 1 (86). С. 93–97.
- Попова web – Попова О.Ф. Избегание страдания как экзистенциальная установка формирования зависимости [Акмеология. 2013. № 3] // https://www.b17.ru/article/13104/
- Радлов 1989 – Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989.
- Токарев 2022 – Токарев Д.А. Гедонистическая атрибутивность страдания в философских рассуждениях Жоржа Батая // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2022. Т. 11, № 2А. С. 68–73.
- Франкл 2018 – Франкл В. Воля к смыслу. М.: Альпина нон-фикшн, 2018. 197 с.
- Франкл 1990 – Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.