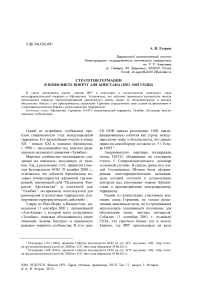Стратегия германии в конфликте вокруг Афганистана (2001-2003 годы)
Автор: Егоров Александр Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ участия ФРГ в подготовке и осуществлении начального этапа антитеррористической операции в Афганистане. Установлено, что действия германского руководства носили комплексный характер, предусматривавший юридическую оценку акции, ее дипломатическое и военное обеспечение. Вместе с тем прослеживалось стремление Германии сосредоточить свои усилия на финансовом и гуманитарном аспектах борьбы с международным терроризмом.
Афганистан, германия, нато, международный терроризм, талибан, бундесвер, восстановление, стабилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14737650
IDR: 14737650 | УДК: 94(430).087
Текст научной статьи Стратегия германии в конфликте вокруг Афганистана (2001-2003 годы)
Одной из острейших глобальных проблем современности стал международный терроризм. Его крупнейшим очагом в конце ХХ – начале XXI в. оказался Афганистан, с 1996 г. находившийся под властью радикального исламского движения «Талибан».
Мировое сообщество неоднократно указывало на опасность, исходящую от талибов. Так, в резолюции 1333, принятой Советом Безопасности ООН 19 декабря 2000 г., отмечалось, что «области Афганистана, которые контролируются афганской группировкой, именующей себя “Исламским Эмиратом Афганистан” и известной как “Талибан”, по-прежнему используются для размещения и подготовки террористов, планирования террористических действий» 1.
Удары по Нью-Йорку и Вашингтону, нанесенные 11 сентября 2001 г. организацией «Аль-Каида», с которой тесно сотрудничал «Талибан», показали обоснованность таких опасений, вызвав быструю и адекватную реакцию мирового сообщества. В этот день
СБ ООН принял резолюцию 1368, квалифицировавшую события как угрозу международному миру и безопасности, что давало право на самооборону согласно ст. 51 Устава ООН 2.
Американского партнера поддержали члены НАТО, объявившие на основании статьи 5 Североатлантического договора «союзный случай». В сжатые сроки под эгидой Соединенных Штатов была сформирована антитеррористическая коалиция, цели которой состояли в установлении контроля над ключевыми зонами Афганистана и противодействии международному терроризму.
Одним из влиятельных участников коалиции стала Германия, не только разделявшая заявленные цели, но и стремившаяся использовать сложившееся положение для обеспечения своих частных интересов. События 11 сентября 2001 г. ослабили США, что сместило баланс сил в пользу Европы, где ФРГ претендовала на роль геополитического центра. Тому способствовали факторы как объективного, так и субъективного характера. В качестве первого выступал значительно увеличившийся потенциал страны вследствие объединения, а во втором случае – его рациональное использование и большие амбиции федерального правительства СДПГ – Союз 90 / «Зеленые» на внешнеполитической арене.
Выбор оптимальной стратегии Берлина в отношении Афганистана обусловливался интересами безопасности своей страны. Ее стартовые позиции в постбиполярный период оказались достаточно устойчивыми, поскольку в отношении германской территории впервые отсутствовала угроза нападения с применением обычных вооружений и вооруженных сил враждебных держав или их блоков. Вместе с тем на рубеже веков концептуальный подход властей ФРГ к обеспечению безопасности претерпел изменения: на смену ее узкому пониманию, трактуемому с точки зрения достижения нерушимости государственных границ, пришло широкое толкование. С этой точки зрения оформление международного порядка в соответствии с немецкими интересами, предусматривающими преодоление комплексных вызовов, локализацию рисков на всех уровнях безопасности, а также защиту территории и населения страны от асимметричных угроз, могла гарантировать деятельность не столько на местном, сколько на региональном уровне. Такое понимание вполне согласовывалось с новой антикризисной стратегией НАТО, возводившей региональные кризисы в число наиболее вероятных угроз стабильности в евроатлантическом пространстве и его периферии.
Из этих соображений вытекало понимание новой миссии бундесвера, который уже не столько готовился к защите страны от нападения потенциального противника, как в биполярную эпоху, сколько привлекался для участия в операциях за рубежом с целью преодоления кризисной ситуации в нестабильных странах.
Несмотря на отсутствие больших возможностей для проявления самостоятельности в рамках антитеррористической коалиции, Германия проявила определенную гибкость в выборе инструментов реализации своей стратегии. На подготовительном этапе было важно обеспечить дипломатическую поддержку готовящемуся военному вторжению в Афганистан, в связи с чем режиму талибов был предъявлен заведомо невыполнимый ультиматум о выдаче лидера «АльКаиды» Усамы бен Ладена. На вооружение официальным Берлином была взята идея «неограниченной солидарности» с американским союзником. Федеральный канцлер Г. Шредер предложил гражданам и органам государственной власти Соединенных Штатов любую помощь, в том числе в розыске и преследовании организаторов и руководителей террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 г. Также было заявлено о готовности Германии участвовать в военных операциях под эгидой США.
Вместе с тем немаловажное значение имела оговорка федерального канцлера, нашедшая свое отражение в формуле: неограниченной солидарности – «да», авантюрам – «нет» 3. Это означало, что официальный Берлин был озабочен поиском четких критериев, в соответствии с которыми следовало принять решение об участии военнослужащих бундесвера в предстоящей акции. Германское правительство опасалось ввязываться в военную операцию без юридической оценки и предварительных расчетов, позволяющих судить об ее правовой стороне и перспективах успешного завершения. Главным условием становилось наличие международно-правового обоснования привлечения немецких войск, что подтверждало бы легитимность военной акции. Иначе говоря, кризисная интервенция с участием военнослужащих бундесвера должна была осуществляться исключительно в многосторонних рамках и на основании международного мандата Совета Безопасности ООН.
Афганская акция отвечала названным критериям, что предопределило линию поведения официального Берлина.
Федеральные органы власти Германии консолидированно поддержали силовую операцию. Девятнадцатого сентября 2001 г. бундестаг большинством голосом одобрил предложенный федеральным правитель- ством комплекс мероприятий содействия американскому союзнику, сводившихся к предоставлению необходимых военных ресурсов, а также оказанию политической и экономической поддержки действий Вашингтона 4.
Седьмого октября 2001 г. США и их союзники приступили к военной операции в Афганистане. Участие в ней Германии получило соответствующее политическое обоснование из уст представителей федерального правительства. Одиннадцатого октября 2001 г. министр иностранных дел Й. Фишер заявил о невозможности дискуссии с терроризмом, исповедующим радикальный ислам, и потребовал дать адекватный ответ на террористический вызов 5. В тот же день федеральный канцлер Г. Шредер выступил в бундестаге с правительственным заявлением, посвященным положению, сложившемуся в связи с началом операции в Афганистане. Он отметил, что военные действия осуществляются исключительно против инфраструктуры террористической сети бен Ладена и режима талибов. США и их союзники, подчеркивал федеральный канцлер, не ведут войну против отдельных государств или народов, и тем более против исламского мира. «Афганский народ – сам жертва терроризма и бедности. Мы хотим поддержать население Афганистана», – заключил свое выступление Шредер 6
Германия не претендовала на роль лидера в афганской операции, собираясь быть в ней вспомогательной силой. Между Берлином и Вашингтоном была достигнута договоренность об участии в операции военнослужащих бундесвера. Мандат, выданный бундестагом, ограничивался 12 месяцами и в дальнейшем подлежал продлению. Кроме того, Германия предоставила по запросу американской администрации военно-техническую помощь.
Силы антитеррористической коалиции оказали поддержку оппозиции – афганскому «Северному союзу», который в сжатые сроки (менее чем за два месяца) освободил Кабул от талибов. Активная фаза военной операции казалась завершенной, после чего наступал новый этап – процесс стабилизации страны. Акценты Германии в Афганистане сместились, ибо на первый план было выдвинуто финансовое и гуманитарное участие в стабилизации положения в стране.
Основным направлением стало выделение федеральным правительством 160 млн ДМ на восстановление инфраструктуры страны. Также в преддверии наступающей зимы 2001–2002 гг. Германия предоставила афганскому населению гуманитарную помощь на сумму 100 млн ДМ.
Одновременно были заморожены около 200 счетов на территории Германии по подозрению, что они использовались для финансовых трансакций террористов [Lutz et al., 2002. S. 96].
В соответствии с резолюцией 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 г. создавались международные силы содействия безопасности ISAF, зона ответственности которых первоначально ограничивалась столицей Афганистана Кабулом. Здесь же были размещены 1 800 военнослужащих бундесвера, действовавших в составе международных сил.
Между тем положение в Афганистане оставалось напряженным. Движение «Талибан» не было сломлено и ставило перед собой задачу возвращения к власти. Правительство Хамида Карзая, образованное в ноябре 2001 г., практически не контролировало ситуацию на местах. Не прекращались вооруженные столкновения подразделений антитеррористической коалиции с талибами. Афганистан представлял собой полностью опустошенную страну и находился в самом низу индекса развития, составляемого специалистами Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). В стране царила разруха, обострялись социальные проблемы, ухудшалась криминогенная обстановка. Инфраструктура страны во многих сферах была сильно повреждена или разрушена, в том числе дороги, железнодорожные линии, системы орошения, а также медицинские и образовательные учреждения [Балай, 2002. С. 61].
Стало ясно, что окончание антитеррори-стической операции затягивается на неопределенный срок, в связи с чем правительство Х. Карзая и администрация президента США Дж. Буша настаивали на расширении присутствия сил международной коалиции в Афганистане. В ноябре 2002 г. бундестаг обновил немецкий мандат на участие в операции, что пришлось в дальнейшем делать неоднократно. Также не состоялось принятие решения о возвращении в Германию 800 военнослужащих бундесвера, намечавшееся на конец августа 2003 г.
Трудности, с которыми столкнулась ан-титеррористическая коалиция, вынудили ее искать сотрудничества с Россией, которая рассматривалась в качестве важного партнера по борьбе с террористической опасностью в силу ее географического положения и военных позиций в Центральной Азии. При этом Германия стала одним из тех активных участников коалиции, усилиями которых Российская Федерация была втянута в афганскую операцию. Основным инструментом воздействия на позицию официальной Москвы стали дипломатические консультации, проводившиеся как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В обоих случаях германские представители делали упор на угрозы, которым сообща подвергались страны антитеррористической коалиции и РФ.
В свою очередь, российская сторона осознавала важность совместной борьбы с террористической опасностью, что позволило президенту РФ В. В. Путину и федеральному канцлеру ФРГ Г. Шредеру подписать в ходе российско-германского саммита в Екатеринбурге (8–9 октября 2003 г.) межправительственное соглашение о транзите военного имущества и персонала через территорию Российской Федерации в связи с участием вооруженных сил Германии в усилиях по стабилизации и восстановлению переходного исламского государства Афганистан. Выступая на пресс-конференции по итогам российско-германских межгосударственных консультаций, президент Путин назвал данное соглашение конкретным вкладом России в борьбу с международным терроризмом, в усилия ООН в Центрально-
Азиатском регионе, а также в сотрудничество с НАТО [Верлин, 2003. С. 4].
Соглашение предусматривало, что транзитная авиаперевозка вооружения и военной техники над территорией РФ осуществляется при обязательной промежуточной посадке на ее территории (в г. Ростов-на-Дону), а беспосадочная транзитная перевозка коллективных средств защиты, специального тылового оборудования производится при получении отдельного разрешения российской стороны. В свою очередь, транзит военного персонала мог осуществляться без совершения промежуточной посадки на территории РФ [Доверительное сотрудничество, 2003. С. 1].
Другим инструментом привлечения России к сотрудничеству с антитеррористиче-ской коалицией стал Совет Россия – НАТО, в котором Германия также проявляла повышенную активность. На заседании Совета, состоявшемся 22 ноября 2002 г., министр иностранных дел ФРГ Й. Фишер от имени Североатлантического альянса заявил о готовности интенсифицировать практическое сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом, подчеркнув, что с последним нужно бороться по-военному решительно 7.
Германская сторона озвучила свои предложения относительно совершенствования антитеррористической борьбы, суть которых сводилась к системному использованию в ее рамках политических и военных средств. Двадцатого января 2003 г. Фишер выступил с речью в Совете Безопасности ООН, где изложил позицию официального Берлина по проблеме повышения эффективности борьбы с террористами. Министр настаивал на комплексном подходе, полагая, что борьба должна вестись с помощью совокупности инструментов, предусматривая: кризисное предупреждение и разрешение конфликта; силовые операции; содействие образованию и диалогу цивилизаций 8.
Четырнадцатого ноября 2003 г. бундестагом было принято решение о продлении мандата бундесвера в Афганистане на очередные 12 месяцев, причем стал очевиден затратный характер антитеррористической операции. По информации Министерства обороны Германии, расходы, связанные с продлением миссии дислоцированных в Афганистане военнослужащих бундесвера, должны были составить 150 млн евро.
Одновременно ФРГ была вынуждена осуществлять солидные финансовые вливания в восстановление инфраструктуры Афганистана. Только в течение первой половины 2004 г. было запланировано выделить на эти цели около 280 млн евро [Ахмадуллин, 2004. С. 6].
В рамках антитеррористической операции немецкие специалисты принимали активное участие в программе обучения полицейских кадров на территории Афганистана, содействовали освобождению населения, прежде всего женщин, от жестких правил поведения в обществе, навязанных талибами. Однако вклад Германии в процесс эмансипации не стоит преувеличивать, поскольку во главу угла был поставлен прагматизм: до тех пор пока афганское население обнаруживало стремление к сотрудничеству, его предоставляли самому себе, даже если имеющиеся обычаи противоречили немецким представлениям о правах и свободах человека.
Форумом, где заинтересованные стороны представляли свое видение ситуации в Афганистане, стала ежегодная Мюнхенская международная конференция по безопасности. На правах хозяина официальный Берлин регулярно озвучивал на ней свою точку зрения. Так, 8 февраля 2003 г., выступая на 39-й конференции, министр обороны Германии П. Штрук назвал главной угрозой национальной безопасности нерешенные политические, этнические и социальные конфликты в соединении с международным терроризмом. Он подчеркнул, что «стабилизация Афганистана, укрепление его мульти-этнического правительства национального примирения, создание условий экономического развития и общественной демократии имеют центральное значение для борьбы с международным терроризмом» 9.
Таким образом, используя системный подход к решению проблемы борьбы с международным терроризмом в Афганистане, ФРГ взяла на вооружение разнообразные инструменты и средства, уделяя особое внимание восстановлению инфраструктуры, оказанию гуманитарной помощи населению, содействуя в обучении полицейских кадров. Вместе с тем не была просчитана возможность затягивания антитеррористической операции, что вынудило активизировать усилия Германии в области дипломатического обеспечения акции.
GERMAN STRATEGY IN THE CONFLICT OVER AFGHANISTAN (2001 – 2003)