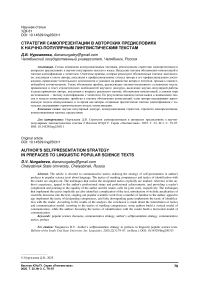Стратегия самопрезентации в авторских предисловиях к научно-популярным лингвистическим текстам
Автор: Нургалеева Д.В.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Зеленые страницы
Статья в выпуске: 3 т.22, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена коммуникативным тактикам, реализующим стратегию самопрезентации в авторских предисловиях к научно-популярным текстам о языке. Выделены тактика обозначения компетенций и тактика идентификации с читателем. Отмечены приёмы, которые реализуют обозначенные тактики эксплицитно: апелляция к опыту автора, апелляция к профессиональному статусу автора и его профессиональным достижениям, приведение читательского комплимента и указание на равенство автора и читателя, призыв к совместной работе соответственно. Также обозначены приёмы, реализующие тактики имплицитно: усложнение текста, привнесение в текст стилистических особенностей научного дискурса, выделение научно-популярной работы из ряда привычных автору, апелляция к возрасту реализуют тактику обозначения компетенций, а ложная игра на понижение - тактику идентификации с читателем. По результатам анализа сделан вывод о взаимосвязи тактик и модели коммуникации: прибегая к тактике обозначения компетенций, одни авторы выстраивают вертикальную модель коммуникации, в то время как авторы, отдающие предпочтение тактике идентификации с читателем, выстраивают горизонтальную модель коммуникации.
Научно-популярный дискурс, коммуникативная стратегия, стратегия самопрезентации, коммуникативная тактика, предисловие
Короткий адрес: https://sciup.org/147252059
IDR: 147252059 | УДК: 81 | DOI: 10.14529/ling250311
Текст научной статьи Стратегия самопрезентации в авторских предисловиях к научно-популярным лингвистическим текстам
Современная лингвистическая наука располагает достаточным количеством исследований, посвящённых научно-популярному дискурсу. Несмотря на это, мнение учёных по поводу стилистического статуса научно-популярных текстов остаётся неоднозначным (подстиль научного стиля или самостоятельный функциональный стиль), а общепринятым основанием для определения того или иного текста как научно-популярного является его специфика, обусловленная особыми задачами коммуникации, а именно «необходимостью “перевода” специальной научной информации на язык неспециального знания» [30, с. 236], и, следовательно, «ориентацией на особый тип читателя» [30, с. 240], читателя-непрофессионала. Важно отметить, что при стилистической классификации текста в зависимости от задачи коммуникации основанием «традиционно считается фактор адресата» [7, с. 39].
В рамках научно-популярного дискурса создано множество текстов, посвящённых разным областям научного знания, одной из которых является лингвистика. Очевидно, что активное появление таких текстов в последние десятилетия и объяснимо, и продиктовано интересом читателя к рассматриваемому объекту, т. е. языку. Интерес читателей к языку, по нашему мнению, можно объяснить его «доступностью» каждому как объекта исследования, а также, следовательно, возможностью практического использования полученных из текста знаний.
Следует отметить, что степень исследованности предисловий к научно-популярным текстам о лингвистике явно недостаточна.
Предисловие как элемент текста рассматривается в различных гуманитарных исследованиях. Так или иначе затрагивают предисловия и литературоведческие, и лингвистические исследования. Филологами изучаются различные аспекты предисловия.
Сугубо содержательный аспект предисловия в основном рассматривается литературоведами. Материалом подобных литературоведческих исследований, как правило, выступают предисловия к нескольким произведениям конкретного отечественного или зарубежного автора или редакции предисловий к определённому тексту.
Такова работа Е.П. Дерябиной [11] , сосредоточенная на эстетической позиции А.А. Фета, в связи с чем проводится анализ идейного содержания тех произведений поэта, где он рассуждает об искусстве, в том числе предисловий.
Как одна из композиционных особенностей художественного текста П.Г. Чернышевского предисловие рассматривается в диссертации Т.М. Мет-ласовой [23] . Здесь предисловие оказывается одним из выделенных в ходе исследования тактических ходов автора, преследующим цель обойти цензуру, то есть замаскировать основное содержание произведения.
В качестве ещё одного примера исследований, сосредоточенных на содержательном аспекте предисловий, можно привести работы И.С. Беляевой [3, 4] , посвящённые творчеству В. Набокова. В частности, предисловие к роману «Лолита» рассматривается И.С. Беляевой как один из видов фикционального комментария, являющийся частью художественного повествования, но оказывающий огромное влияние на восприятие основного текста произведения. И.С. Беляева приходит к выводу, что, обманывая читателя, предисловие к роману предопределяет его сюжетную амбивалентность и таким образом «определяет фабулу и сюжет» [4, с. 52].
Есть филологические исследования, посвящённые и структурным особенностям предисловия.
Е.В. Колядин рассматривает взаимосвязь структурных особенностей предисловия и типовой принадлежности предваряемых ими текстов [15] .
Изучению функции и строения переводческих предисловий посвящено исследование Д.И. Остапенко [25] . Предисловие в этой работе понимается как метатекст, вторичный текст, обладающий автономностью и вне зависимости от лингвокульту-ры, к которой принадлежит текст, имеющий сходную структуру и выполняющий сходные функции.
Тематические особенности и своеобразие образа автора в предисловиях к оригинальной и переводной древнерусской агиографии находятся в центре внимания Е.А. Пановой [26] , на основе которых исследователь выделяет тематические группы агиографических предисловий.
Риторические и полифонические текстовые средства в авторском предисловии Ф.М. Достоевского к роману «Братья Карамазовы» исследует О.Ю. Ткаченко [36] .
Методическому аспекту предисловий также уделяется внимание в филологических исследованиях. Например, ему посвящены работы А.М. Те-нековой [32 –35] . В них предисловие рассматривается как текст справочного аппарата, как письменная разновидность высказывания педагога, посредника между художественной или научноучебной книгой и аудиторией. Основной целью предисловия, как утверждается в диссертации А.М. Тенековой [33] , является передача установки на верное и наиболее простое восприятие основного текста. По мнению исследователя, обучение созданию предисловия позволит повысить профессиональные навыки студентов педагогической специальности, а само предисловие может стать одним из средств обучения в арсенале учителя.
Коммуникативно-прагматический аспект предисловий рассматривается на материале предисловий к художественным, научно-популярным и научным текстам.
Некоторые исследователи, в центре внимания которых находится коммуникативно-прагматический аспект предисловий, определяют предисловие как паратекстовый элемент. Так предисло- вие определяется в работе Е.А. Меламедовой [22]. На материале научной и научно-популярной литературы гуманитарных направлений Е.А. Меламе-дова анализирует интертекстуальные связи пара-текстовых элементов, основного текста и прецедентных текстов.
Как паратекстовый элемент предисловие понимается и в работах М.В. Покалюхиной [20, 29] . На материале англоязычных научно-популярных текстов о становлении и развитии человеческой цивилизации М.В. Покалюхина исследует функциональные свойства, лингвостилистические особенности, средства создания диалогичности пара-текстовых элементов, одним из которых, по мнению исследователя, является и предисловие.
Можно упомянуть и ряд работ коммуникативно-прагматической направленности, где предисловие рассматривается как дискурсивный жанр.
Рассматривая предисловие как дискурсивный жанр, то есть жанр, обозначающий прагматическую ориентацию говорящего, А.Ю. Дайнеко [10] исследует контактоустанавливающие авторские стратегии предисловия на материале предисловия к энциклопедии для родителей.
Как дискурсивные жанры определяются предисловия и введения в исследовании Л.Г. Викуловой, Э.М. Рянской и С.А. Герасимовой [6] , посвящённом сравнению коммуникативных стратегий в предисловиях к русскому и французскому философскому словарю.
Коммуникативные стратегии в авторских предисловиях к французским художественным текстам исследует О.И. Короленко [17] и рассматривает предисловие как продвигающий текст – текст, «который помогает читателю выбрать произведение» [17, с. 141].
Лингвистических работ, посвящённых изучению коммуникативно-прагматическому аспекту предисловия к научно-популярным текстам о языке, в ходе исследования обнаружено не было. Несмотря на то, что редко, но лингвистические научно-популярные тексты становятся материалом исследования лингвистов [19] , коммуникативно-прагматические особенности предисловия не рассматриваются. Это подчёркивает актуальность нашего исследования.
Как предтекстовый элемент, начинающий коммуникацию, предисловие играет решающую роль в отношении того, перейдёт ли читатель к основному тексту. М.П. Котюрова, рассуждая о структуре монографии, отмечает, что предисловие наряду с другими периферийными текстами образует прагматическую рамку. За счёт этого обеспечивается структурная целостность текста: композиция научного текста, и периферийные тексты в том числе, «создаёт четкую перспективу развертывания и восприятия текста, способствует ясности изложения, программирует восприятие и понимание смысла адресатом» [18, с. 255], то есть подготавливает читателя к взаимодействию с основным текстом. Важное дополнение вносит Е.В. Сухая, замечая, что «стереотипность композиционной структуры признаётся не только за монографией, но и за многими другими произведениями речи, принадлежащими научному регистру» [31, с. 69], а отличительные характеристики монографии «не противоречат принципам популяризации» [31, с. 69], то есть особенности предисловий к научному и научно-популярному текстам совпадают. Таким образом, можно выделить две ключевые функции предисловия к научно-популярным текстам о языке, каждая из которых соотносится с соответствующей коммуникативной стратегией: презентации текста, или рекламной стратегии, и самопрезентации автора. Данная статья будет посвящена способам реализации последней.
По мнению О.Н. Паршиной, выраженному в её работах о речевом поведении политической элиты [27, 28] , самопрезентация представляет собой косвенную демонстрацию личностных качеств говорящего с целью формирования представления о нём и его целях. Для этого говорящий, например, может отождествлять себя с аудиторией, которой адресовано его сообщение, или дистанцироваться от оппонента.
По мнению О.С. Иссерс, стратегия самопре-зентации складывается из тактик, цель которых – «создать образ оратора, наиболее эффективный в области воздействия на конкретную аудиторию» [13, с. 196]. Для этого необходимо сформировать у адресата доверие к адресанту и смоделировать адресанту роль, «которую автор считает подходящей для аудитории, темы и других элементов риторического контекста» [13, с. 196]. При этом именно динамика в соотношении реальных качеств адресанта и смоделированных и составляет понятие его имиджа: другими словами, кто есть автор и как он подстраивается под коммуникативную ситуацию, как изменяется в зависимости от неё.
Согласно положениям работы И.А. Медведевой [21] , самопрезентация – речевой акт, формирующий положительный образ субъекта речи. Коммуникативная задача данного акта реализуется посредством различных языковых средств, выбор которых зависит от дискурсивных обстоятельств.
Опираясь на характеристику презентуемых читателю авторских качеств (реальные и моделируемые), мы выделили две коммуникативные тактики, реализующие стратегию самопрезнетации в авторских предисловиях к научно-популярным текстам о языке. Под термином «коммуникативная тактика» мы вслед за О.С. Иссерс понимаем набор приёмов, выбранных адресантом для реализации коммуникативной стратегии, которая «представляет собой комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [13, с. 54], или комплекс коммуникативных тактик.
Как один из способов реализации стратегии самопрезентации нами выделена тактика обозначения компетенций. Эта тактика может быть эксплицитной и имплицитной.
К эксплицитной реализации тактики может быть отнесена апелляция к опыту автора. Авторы не только указывают на длительность периода, в течение которого их непосредственная деятельность была взаимосвязана с языком, но и обозначают аудиторию, с которой они в это время взаимодействовали. Это позволяет авторам показать и то, что их знания предмета почерпнуты из разных источников (и теоретические, и практические знания; и личный опыт, и чужой), и то, что эти знания могут быть применены ими в различных обстоятельствах, а значит, глубоки и осознанны: «Тем, что у меня сложилось более или менее цельное представление о ремесле художественного перевода, я обязан не только собственной практике и общению с коллегами , но и своему преподавательскому опыту » [2, с. 10]; «Автору приходилось много учиться , а подчас и учить » [8, с. 18]; «Я много работаю и со школьниками , и со взрослыми , помогая им за короткий срок научиться грамотно писать» [39, с. 4]; «В книге вы найдете <…> немало того, что было добыто и открыто самим автором в течение его многолетней научной и преподавательской работы» [40, с. 11]. Апелляция к опыту позволяет автору зарекомендовать себя как человека, интересующегося рассматриваемым предметом долгое время и, следовательно, владеющего обширной информацией по данной проблематике, а также как профессионала, способного ориентироваться в этой информации и применять её в любой ситуации.
Также эксплицитная реализация тактики обозначения компетенции может быть осуществлена посредством апелляции к профессиональному статусу автора и его профессиональным достижениям. Авторы упоминают места, где они учились, работали, называют должность, конкретные результаты: «после окончания механикоматематического факультета МГУ я стала ломать голову <…> над решением задачи гуманитарной: как создать самую полную и увлекательную энциклопедию для детей? И такая энциклопедия появилась» [1, с. 11]; «к тому времени я с единомышленниками подготовила цикл телевизионных программ под названием “Знают ли русские русский?”» [1, с. 11–12]; «С того момента, как я начала работать консультантом по русскому языку у дикторов Всесоюзного радио, и до последнего времени, уже в качестве профессора Высшей школы экономики, меня преследует этот вопрос: так как же всё-таки правильно?..» [16, с. 3]; «В книге вы найдете <…> немало того, что было добыто и открыто самим автором в течение его многолетней научной и преподавательской работы» [40, с. 11]. Апеллируя к своему профессиональному статусу и своим профессиональным достижениям, авторы демонстрируют свой авторитет, признанный другими, и «призывают» читателя присоединиться к тем, кто признает их достижения в данной области, апеллируя, в свою очередь, к их статусу и авторите- ту. Так, авторитетными «другими» становятся дикторы Всесоюзного радио, бесспорно обладающие определёнными компетенциями в области языка и, следовательно, имеющие в качестве консультанта человека ещё более осведомлённого, образовательное учреждение высшего образования или руководство телеканала, транслирующего цикл подготовленных автором передач о языке.
Апелляция к пользе книги (приведение читательского комплимента) тоже может быть средством эксплицитной реализации обозначенной выше тактики: «Бесхитростное письмо Сергея я воспринял как самую лестную оценку моих популяризаторских усилий и литературного творчества» [5, с. 4] (мальчик писал о том, что получил высшую оценку за зачёт, к которому готовился по книге); «Некоторые читатели говорили и писали мне, что пользуются этой книжкой в повседневной работе » [8, с. 20]. В этом случае в роли авторитетных «других» выступают читатели предыдущих работ автора или предыдущих изданий книги. Тактика приведения читательского комплимента представляется нам отличающейся от тактики апелляции к профессиональному статусу и профессиональным достижениям по степени вероятных рисков: здесь указывается на признание автора людьми, находящимися на одном уровне с читателем, и, таким образом, в ней отсутствует скрытое указание на непрофессиональное положение читателя по отношению к рассматриваемому предмету.
Как показал анализ текстов, стратегия само-презентации может быть реализована посредством имплицитных тактик. Одним из имплицитных способов реализации данной стратегии является усложнение текста, в частности, активное использование терминов с их последующим толкованием или без объяснения, или демонстрация профессиональной компетенции: «Лингвистический – значит связанный с языкознанием, лингвистикой; парадокс – обозначает странное, необычное явление, противоречащее установленным закономерностям, иногда даже здравому смыслу» [24, с. 4.]; «книга в целом строится как свободная последовательность <…> новелл о самых различных словах и словесных сообществах, об их семантике, <…> орфографии…» [40, с. 10]; «эта книга –<…> своеобразное введение в науку о русском языке, в котором вы знакомитесь со многими (очень важными) вопросами лексикологии и фразеологии, этимологии, правописания и орфоэпии, культуры речи, поэтики и лингвистического анализа художественного текста» [40, с. 11]. «Стилистические параметры слов также выступают в качестве индикаторов коммуникативного намерения» [13, с. 137], и использование терминологии не только позволяет адресанту обозначить пространство, в пределах которого будет происходить коммуникация, но и обозначить себя как профессионала, ориентирующегося в этом пространстве и готового стать проводником для адресанта. Презентуя себя как профессионала, специалиста, автор сигнализирует, что данный текст рассчитан на «продвинутого» читателя, т. е. моделирует образ компетентного адресата. Положение адресанта, обозначаемое посредством данного приёма, никак нельзя назвать равным потенциальному адресату.
Сходный коммуникативный эффект создаёт привнесение в текст стилистических особенностей научного дискурса, например, использование свойственного науке личного местоимения множественного числа первого лица: «специально устранять такие пересечения мы сочли излишним» [12, с. 6].
Выделение научно-популярной работы из ряда привычных автору также даёт читателю понять, что создание научно-популярных текстов – не свойственное автору занятие, нечто менее серьёзное, чем его обычная деятельность: «Книга, которую вы взяли в руки, необычна . И объясняется это <…> стилем бесхитростного научно-популярного изложения и формой подачи занимательного материала». [40, с. 10].
Обращения, подчёркивающие разницу в возрасте, т. е. апелляция к возрасту, тоже обозначает неравное автору положение адресата: «Я обращаюсь к тебе, юный читатель» [5, с. 3].
Можно заключить, что все вышеобозначен-ные тактики формируют вертикальную модель коммуникации, понимаемую как «коммуникация между людьми, стоящими на различных ступеньках социальной иерархии» [14, с. 257], как «коммуникация субординации» [14, с. 257].
Тактика идентификации с читателем также выделена нами как способ реализации стратеги самопрезентации. Одним из эксплицитных выражений тактики является прямое указание на равенство автора и читателя: «И вы, и я, и каждый из нас – все мы постоянно думаем» [37, с. 9]. Кроме этого, эксплицитным выражением тактики может быть и призыв к совместной работе, выраженный посредством использования инклюзивного императива: «Давайте задумаемся вместе » [1, с. 12]; «А теперь – а давайте начнём» [2, с. 10]; «Ну а теперь за книгу. Нас ждут слова» [40, с. 11]. Так адресант принимает роль не ведущего, но спутника адресанта: он предлагает читателю идти не следом за ним, а идти рядом с ним.
Имплицитно тактика выражена в приёме ложной игры на понижение, состоящей из компонентов «обозначение сниженной позиции автора – обозначение выгоды подобной позиции относительно рассматриваемого предмета». Например, авторы
«отказываются» от роли учёного, реже – учителя. Обозначая свою непринадлежность к кругу учёных, они либо отказываются от свойственного учёным непонимания тех многих людей, которые, будучи непрофессионалами, испытывают трудности с языком («Нужна книга, написанная не учёным-лингвистом, а обычным человеком, любящим свой родной язык». – «Его сомнения <…> понятны миллионам людей, для которых русский является родным языком» [1, с. 11]), либо ставят практическую деятельность выше теоретической («Автор этой книжки не лингвист и отнюдь не теоретик». – «Автор вовсе не стремился развивать теоретические положения, а старался показать и доказать на деле: вот так лучше» [8; с. 18]; «Я изложила в своей книге <…> только то, что поняла сама». – «Я – не учитель» [38, с. 16]) либо выделяют те преимущества, которые даёт им другой род занятий («Я не лингвист, а учитель». – «Я могу говорить о русском языке легко и с юмором, поэтому скучно не будет» [9, с. 8–9]). Отказ от позиции над адресантом или от одной позиции над адресантом в пользу более низкой позиции над ним сближает автора и читателя.
Будучи выраженной и эксплицитно, и имплицитно, тактика идентификации с читателем, таким образом, выстраивает горизонтальную модель коммуникации с читателем, в которой коммуникация осуществляется «между членами группы равного ранга, а также между равнозначными группами» [14, с. 256].
Из сказанного выше можно сделать вывод, что две ключевые тактики, реализующие стратегию самопрезентации, могут и прямо или косвенно подчёркивать различия между автором и его читателем, а могут и способствовать их сближению путём нивелирования всех различий. В первом случае в тексте выстраивается вертикальная модель взаимоотношений автора и читателя, во втором – горизонтальная. При выходе на первый план тактики обозначения компетенций стратегия са-мопрезентации более очевидна, а при использовании тактики идентификации с читателем стратегия самопрезентации имплицируется: как правило, данная тактика не является доминирующей. Можно добавить, что стратегия самопрезентации обычно выражена эксплицитно в предисловиях к лингвистическим научно-популярным текстам, написанным учёными-лингвистами. Это, в свою очередь, свидетельствует о значимости фактора адресанта при анализе прагматической специфики исследуемых текстов.