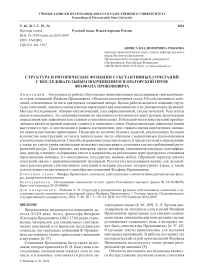Структура и риторические функции субстантивных сочетаний с последовательным подчинением в ораторской прозе Феофана Прокоповича
Автор: Рожкова А.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 7 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Актуальность работы обусловлена незначительным исследованием синтаксического строя сочинений Феофана Прокоповича. Объектом рассмотрения стали 318 субстантивных сочетаний, извлеченных из пяти ораторских сочинений автора. Целью работы является описание структуры сочетаний, лексико-семантическая характеристика компонентов и их риторических функций.
Феофан прокопович, синтаксис, субстантивные словосочетания, риторические фигуры, диахроническая риторика
Короткий адрес: https://sciup.org/147245781
IDR: 147245781 | УДК: 811.161.Г367 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1089
Текст научной статьи Структура и риторические функции субстантивных сочетаний с последовательным подчинением в ораторской прозе Феофана Прокоповича
Бл а год ар н о с т и . Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00696,
Произведения выдающегося церковного деятеля XVIII века, поэта, философа Феофана (Елеазара) Прокоповича (1681–1736) редко становились материалом для специальных синтаксических изысканий, в то время как исследователи отмечали, что «синтаксис сочинений Ф. Прокоповича заслуживает самого пристального внимания и изучения» [6: 37].
Сочинения Прокоповича были среди источников, которые привлекала И. И. Ковтунова в исследовании, посвященном порядку слов (в том числе и в именных сочетаниях) в русском ли тературном языке [4: 66–109]. Л. Л. Кутина анализировала на материале слов и речей Феофана Прокоповича характерные для книжно-славянского языка синтаксические конструкции с целью установления «языкового типа, к которому может быть отнесен язык Прокоповича» [6: 37–43]. Отдельные тексты привлекались для изучения синтаксиса проповедей1. В работах последних лет синтаксический строй произведений Феофана Прокоповича исследуется с точки зрения риторической организации [8].
Объектом настоящего исследования являются беспредложные подчинительные сочетания имен существительных, извлеченные из пяти слов-проповедей Феофана Прокоповича: «Слово похвальное о преславной над войсками свейски-ми победе» (1709), «Слово похвальное в день рождества благороднейшаго государя царевича и великого князя Петра Петровича» (1717), «Слово похвальное о баталии Полтавской» (1717), «Слово в неделю осмуюнадесять, сказанное во время присутствия его царского величества, по долгом странствии возвратившагося» (1717), «Слово похвальное на тезоименитство благоверныя государыни Екатерины» (1717). (О содержательных и стилистических особенностях ораторских слов Прокоповича см. [1], [2], [5], [7: 24–25], [14], [15].)
Как отмечает З. Д. Попова, «именные группы из двух существительных характерны для книжных текстов. Они отражают более высокую ступень организации высказывания, сжимая в номинативное обозначение предикативную структуру» [10: 159]. Принимая во внимание жанровую форму анализируемых текстов, представляется важным подробно рассмотреть структуру, лексико-семантическое выражение компонентов сочетания, их функционирование, что и определяет цель исследования. Описание субстантивных конструкций было бы неполным без наблюдений за их риторическими функциями, учитывая, что Прокопович – теоретик и практик ораторского искусства, автор трудов «Риторика», «Поэтика» («De arte poetica», «De arte rhetorica libri X»), «каждый из которых по тому времени был глубоко новаторским курсом и имел большое влияние на теорию и практику словесного творчества XVIII века» [1: 56].
СТРУКТУРА ИМЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ
Общее количество анализируемых конструкций – 318. Зависимое имя (имена) во всех сочетаниях выступает в родительном падеже.
По структуре именные сочетания разделены на несколько групп в зависимости от следующих параметров: 1) в составе сочетания только главный (главные) и зависимый (зависимые) имена без определений; 2) в составе сочетания главный (главные) и зависимый (зависимые) имена с определениями; 3) в составе сочетаний несколько последовательно зависимых имен (с возможным распространением определениями).
При характеристике внутри каждой группы будет учитываться прямой и обратный порядок, а также контактное и дистантное расположение всех компонентов (главного и зависимого, а также определений в случае их наличия).
Структуры с главным (главными) и зависимым (зависимыми) именами без определений
Общее количество таких структур – 90. Большая часть приходится на структуры с од- ним главным компонентом и одним зависимым: от начала царствования (63)2. Немногочисленны примеры с двумя и более главными при одном зависимом или двумя и более зависимыми при одном главном: о тяжести и лютости брани (24), на бреги Ингрии и Карелии (44), на взыскание бун-товников, и грабителей, и убийцов (28).
Преобладающий порядок главного и зависимого – прямой. Инверсированных примеров в три раза меньше: победы похвалу (23), спасения корабль (63). В текстах первой трети XVIII века порядок следования главного и зависимого имен был стилистически обусловленным, что отмечала И. И. Ковтунова: препозиция зависимых имен
«была употребительна преимущественно в таких жанрах и сферах речи, которые были связаны с црк. славянским языком (где наблюдалась свобода препозитивного и постпозитивного употребления зависимых имен) и – в еще большей степени – с распространившимся в эту эпоху влиянием латинского синтаксиса» [4: 77].
Структуры с определениями при главном (главных) и зависимом (зависимых) именах
Значительно превосходящее предыдущую группу количество таких примеров (220), а также широкая вариативность расположения компонентов в конструкциях позволяют составить более дробную классификацию.
Структуры с определениями только при зависимом имени
Многочисленную подгруппу представляют конструкции, в которых определение есть только у зависимого слова (далее такие структуры описаны в порядке убывания по частоте употребления). Наиболее типичная модель организации компонентов укладывается в схему «главное слово + зависимое с постпозитивным определением»: хищением льва свейского (44). Другая распространенная модель строится по схеме «главное слово + препозитивное определение при зависимом»: приобретения суетной славы (70). Еще одна модель – «препозитивное определение при зависимом + главное слово»: великих дел управители (38). Менее востребована модель «зависимое с постпозитивным определением + главное»: « любве истинной познание » (70).
В данной подгруппе преобладает прямой порядок расположения главного и зависимого существительных. Наблюдается равное количество примеров с препозицией определения и его постпозиционным расположением относительно определяемого (см. примеры выше). Определение выступает контактно по отношению к определяемому. Отметим случай дистантного расположения: от гласа грома твоего (35).
Структуры с определениями при главном и при зависимом именах
Такие конструкции на втором месте по численности употребления среди конструкций с определениями. Следует выделить только три модели, которые используются относительно регулярно: «препозитивное определение при главном + постпозитивное употребление при зависимом»: превеликая слава народа нашего (37); «определение, относящееся к главному слову, + зависимое с постпозиционным определением + главное»: лестную мира сего любовь (73); «определение, относящееся к главному имени, + препозитивное определение при зависимом имени + главное»: дивною неописанной победы красотою (23). Присутствует достаточно большое количество (20) единичных конструкций с вариативным расположением и количеством компонентов (в том числе главного и зависимого имен): отечества и православия нашего истинный любитель (32), домашния славы надежду неложную (48), много-словнии любомудрцы, книжницы и совопросницы века сего (74).
Для этой группы характерно одинаковое использование прямого и обратного порядка главного и зависимого имен (учитывается как контактное, так и дистантное расположения главного и зависимого). Доминирующим расположением определений при главном имени является препозиция в контактном и дистантном употреблении. Вариант дистантного словорасположения – пре-славный войск свейских победителю (23), возникший под влиянием латинского языка, приобрел широкое распространение в текстах XVIII века [4: 76].
Определения при зависимом имени одинаково используются в препозиции и постпозиции, но только в контактном расположении.
Структуры с определениями при главном имени
Это самая малочисленная подгруппа, в которой можно выделить две наиболее распространенные модели: «препозитивное определение при главном имени + зависимое»: ухищренный вид святости (70); «дистантное препозитивное определение, относящееся к главному имени, + зависимое имя + главное имя»: приобретенным вещей познанием (66). В последней модели реализуется уже отмеченный способ расположения, возникший под влиянием латинского языка.
Единичное употребление отмечено для двух конструкций: вид притворный любве (69), воинства мужественным подвигом (23). По несколько случаев употребления приходится на модели с двумя главными или зависимыми словами: в совершенный силы и славы возраст (50).
Для этой подгруппы характерно примерно равное соотношение прямого и обратного порядка главного и зависимого имен. Как правило, определение занимает препозицию по отношению к определяемому имени. Характеризуя соотношение контактного и дистантного расположения определения и определяемого имени, следует отметить незначительный перевес последнего варианта.
Структуры с несколькими последовательно зависимыми именами
Такого рода конструкции нетипичны для анализируемых текстов (всего 8 примеров): печальной пагубы воев своих зритель (25), в день рождества благороднейшего государя царевича и великого князя Петра Петровича (38), надежду продолжения нашего блаженства (43), разъярение зависти сосед наших (51), в веру евангелия сына его (53), в подобии насаждения древа (62), о спасении искателей погибели ея (73). Как видно, почти для всех характерен прямой порядок последовательно зависимых компонентов (инверсия наблюдается в первой конструкции). В качестве зависимых выступают формы родительного падежа. Особо выделяется один пример с формой дательного и родительного падежей: благополучию вечности своей надежда (43).
Таким образом, представленные выше разновидности конструкций характеризуются широкой вариативностью расположения и разным количеством компонентов. Это обстоятельство не дает возможности свести их к определенному числу устойчивых моделей, однако позволяет говорить о преобладании распространенных конструкций. Такое распространение происходит за счет наличия: 1) нескольких главных и/или зависимых имен; 2) определений при главном и/ или зависимом именах; 3) нескольких главных и/или зависимых имен и определений при них. Феофан Прокопович в своей «Риторике» уделял внимание способам распространения («источники распространения») подлежащего и сказуемого: «определение, перечисление, синонимия, дополнение» [12: 211]. Такого рода распространители представлены в структуре анализируемых субстантивных сочетаний, например однородные ряды имен-дополнений при главном члене предложения: подобает мне первее глаголати о побежденнаго супостата силе, дерзости, мужестве, к тому о тяжести и лютости брани (24). Распространенность (или «изобилие слов» [12: 210]) связана с созданием ритма: «Первое условие наличия ритмической речи в том, что она должна изобиловать словами, выбранными в соответствии с потребностью содержания <…>» [12: 210].
Немаловажно, что поддержание определенного ритма обеспечивается словорасположением, представляющим собой риторические фигуры, например инверсированный порядок слов («ги-пербат» в терминологии Прокоповича [12: 257]) или хиазм, который наблюдается в построениях с симметричным расположением имен и определений: домашния славы надежду неотложную (48).
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ И ИХ ОБРАЗНЫЕ ФУНКЦИИ
Состав имен в сочетаниях разнообразен и включает собственные, нарицательные, конкретные, абстрактные, вещественные, собирательные существительные. Тематически имена соотносятся с политической сферой и государственным устройством: вид правительства (51), о правлении государства (56), благополучие монархии (39); с территориальными и географическими границами: до предел царства Персидского (25), до брегов моря Ледовитаго (25); военным делом: к действию баталей (65), жилою воинства (26); религией: к познанию Бога (64), светом евангелия (73); областью человеческих чувств и эмоций: под видом веселия (72), боязнию смерти супружеской (74).
Основным способом выражения определения при главном и зависимом именах являются местоимения и прилагательные. Среди местоимений наиболее распространенные наш, свой, сей, твой: сила монарха нашего победительная (44), на пагубу своего ж отечества (27). Прилагательные представлены разными лексико-семантическими разрядами: в рождении сына царева (48), единством корене славенского (51), великую мира часть (65). Наиболее частотными являются прилагательные великий и преславный . Определения выступают в функции эпитета, образно характеризуя обозначенный главным или зависимым именем предмет: лестную мира сего любовь (73).
При участии анализируемых сочетаний образуются метафоры, которые Феофан Прокопович относил к фигурам, «способствующим услаждению» [12: 251, 257]. Отдельные метафоры обусловлены влиянием церковнославянской книжной традиции, например тьму неразумия (73), светом евангелия (73), или образованы соединением конкретного и абстрактного существительных: столп крепости (32), щитом силы своея (32), слово спасения (66), лице любви (70) (о подобных образных сочетаниях в старославянском языке и в древнерусской гимнографии см. [3: 192], [13]). Как отмечает Н. В. Патроева, «насыщенность церковнославянизмами – характерная примета победной песни “Епиникион”» [9: 112].
Интересны примеры, когда использованные в разных частях текста метафорические сочета- ния включают одну и ту же лексему, отражая тем самым идею ораторского сочинения. В тексте «Слово похвальное на тезоименитство благо-верныя государыни Екатерины» варианты метафоры со словом любовь образно эксплицируют «две главные темы проявления любви – к Богу и к ближнему» [15: 196]: притворное лице любве (70), сила любве истинной (70), любве искушение (70), законоположник любве (75). «Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе» включает несколько метафор со словом победа: дивною неописанной победы красотою (23), победы похвалу (23), великая победы нынешней слава (26).
В распространенных сочетаниях ряды главных или зависимых имен (реже определений) используются в качестве синонимов (в основном контекстуальных): российской монархии силу и крепость (25), чаяние и ожидание языков (61), дивною неописаннои победы красотою (23). Такие примеры иллюстрируют советы самого Феофана Прокоповича для упражнений по синонимике:
«…не заботься о том, чтобы находить слова совершенно одинакового значения <…> но будет достаточно тех, которые в соединении выражают одно и то же, хотя взятые отдельно – не будут иметь подобного значения» [11: 351].
Экспрессия образных сочетаний может быть усилена другими приемами, например амплификацией: блаженства всероссийскаго семя, корень, основание (38), на взыскание бунтовников, и грабителей, и убийцов (28), множеством нужд, злоключений, наветов и препятий великих (24).
Прием повтора наблюдается в построенных по одной модели конструкциях с разным или частично совпадающим лексико-морфологическим составом компонентов, ср. следующие примеры из разных фрагментов одного текста («Слово похвальное о преславной над войсками свейски-ми победе»): за толикую любов монархи своего (28) – толикое мужество царя своего (31), верх победительной славы (33) – верха дивной славы (37). Подобный повтор и параллелизм, но уже контактный в рамках одного предложения встречается в других текстах:
«Еесть чем поздравляти тебе, благороднейшая государыня наша царица, таковаго супруга подружие и таковаго сына матерь быти сподобльшася!», «<…> да увидит сыны сынов своих и на сынах сынов своих своих дел славныя образы <…>» («Слово похвальное в день рождества благороднейшаго государя царевича и великого князя Петра Петровича», 47–48), «Увидел бы еси под красным цветом змия, под видом веселия желчь горькую, под видом плача радость, под видом похвалы хулу, под видом приязни ярость убивственную» («Слово похвальное на тезоименитство благоверныя государыни Екатерины», 72).
ВЫВОДЫ
Субстантивные сочетания являются обязательным компонентом синтаксиса ораторских сочинений Феофана Прокоповича и представляют собой структуры, служащие для номинации не только конкретных физических предметов, реалий, действий, но и тех понятий, которые образно соотносятся с темой и идеей текстов. Умеренность и сбалансированность в строении сочетаний определяется несколькими факторами: незначительным числом конструкций с двумя последовательно зависимыми именами, ограниченным количеством определений при именах, компактными рядами главных и зависимых имен (об умеренности и сдержанности стилистических устремлений Феофана Прокоповича см. [5: 75], [9: 118]).
Организация компонентов, способы их выражения позволяют рассматривать эти синтаксические единицы как полноценный ресурс для риторического оформления произведения. Жанрово-стилевой спецификой и идейным содержанием слов-проповедей обусловлено использование тропов и риторических фигур, которые направлены на восхваление и прославление значимых событий (воинской победы, рождения наследника царского престола), героев (монархов, вождей) или против изменников и вражеских войск. Славяно-книжные традиции проявляются в лексико-семантическом характере имен и определений-распространителей. Индивидуальные особенности, в том числе и в организации таких конструкций, еще предстоит выяснить в процессе дальнейшего комплексного исследования творческого наследия Феофана Прокоповича.
Список литературы Структура и риторические функции субстантивных сочетаний с последовательным подчинением в ораторской прозе Феофана Прокоповича
- Буранок О. М. Своеобразие ораторской прозы Феофана Прокоповича Киевского периода // Культура и текст. 1997. № 1. С. 56-62.
- Буранок О. М. Творчество Феофана Прокоповича и русско-зарубежные литературные связи первой половины XV!!! века // Проблемы филологии, культурологии и искусствознания. 2013. № 1. С. 149-155.
- Исследования по синтаксису старославянского языка: Сб. статей / Чехословацкая акад. наук; Научный ред. проф. д-р Иосиф Курц. Прага, 1963. 378 с.
- Ковтунова И. И. Порядок слов в русском литературном языке XV!!! - первой трети ХIХ в. Пути становления современной нормы. М.: Наука, 1969. 231 с.
- Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XV!!! век. Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой четверти XV!!! века. Л., 1974. С. 50-80.
- Кути на Л. Л. Феофан Прокопович. Слова и речи. Проблема языкового типа // Язык русских писателей XV!!! века. Л.: Наука, 1981. С. 7-47.
- Панегирическая литература петровского времени / АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; Изд. подгот. В. П. Гребенюк; Под ред. О. А. Державиной. М.: Наука, 1979. 311 с.
- Патроева Н. В. «Епиникион» Феофана Прокоповича в риторическом аспекте // Словесность и история. 2022. № 3. С. 72-86.
- Патроева Н. В. Отражение теоретических воззрений Феофана Прокоповича в его поэзии // Русская литература. 2024. № 2. С. 107-118.
- Попова З. Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XV!! века: (Структурно-семантическое описание). Воронеж, 1969. 183 с.
- Прокопович Ф. О поэтическом искусстве // Прокопович Ф. Сочинения / Под ред. и с предисл. И. П. Еремина; Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР. Ленингр. отд-ние, 1961. С. 335-459.
- Прокопович Ф. Об искусстве риторическом десять книг / Пер. Г. А. Стратановского; Отв. ред. С. И. Николаев; Подгот. текста Е. В. Маркасовой, С. И. Николаева; Коммент. Е. В. Маркасовой; Науч. ред. пер. Е. В. Введенская. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2020. 488 с.
- Рожкова А. В. Субстантивные словосочетания с родительным падежом в древнерусской гимно-графии // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2021. Т. 43, № 3. С. 48-54. БО!: 10.15393/и^.ай.2021.600
- Терешкина Д. Б. Евангельское слово в проповедях Феофана Прокоповича // Проблемы исторической поэтики. 2018. Т. 16, № 1. С. 17-29.
- Терешкина Д. Б. Минейный код в ораторской прозе Феофана Прокоповича // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. 2014. № 5. С. 193-202.