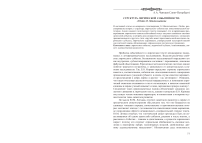Структура лирической событийности: "Tristia" О. Мандельштама
Автор: Чевтаев Аркадий Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Прочтения
Статья в выпуске: 1 (24), 2013 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье на материале стихотворения О. Мандельштама «Tristia» рассматривается вопрос о структуре лирического события как повествовательной категории. Анализ данного поэтического текста показывает, что в нарративном развертывании лирического сюжета событийный статус получает изменение системы ценностей субъекта, в котором актуализируется его соприкосновение с сознанием принципиального «другого» (этот «другой» может представать иной ипостасью лирического субъекта, лирическим персонажем, универсальной культурной маской или системой знаков, обозначающих определенную поэтическую традицию).
Лирическое событие, лирический субъект, повествование, сюжет, художественная аксиология
Короткий адрес: https://sciup.org/14914378
IDR: 14914378
Текст научной статьи Структура лирической событийности: "Tristia" О. Мандельштама
Проблема событийности в лирическом тексте неоднократно поднималась в литературоведческих исследованиях. Выделяя различные свойства лирического события, большинство исследователей определяют его как внутреннее, субъективированное состояние / переживание, лишенное фабульной объективации. В различных методологических системах данное понятие трактуется по-разному, в зависимости от концептуальных установок исследователя. Так, Б.О. Корман определяет строение лирического сюжета и, соответственно, события как «последовательность однородных прямооценочных суждений субъекта: в одном случае сюжетом передаются представления о добре, норме; в другом - зле, антинорме»1. Очевидно, что такая отчетливая аксиологическая направленность в понимании лирической сюжетики сказывается и на ее сегментации: в качестве сюжетной единицы в лирике ученый называет «слово, передающее прямую оценку»2. Соединение таких прямооценочных единиц обеспечивает динамику сюжетного движения в лирическом тексте, однако в концепции Б.О. Кормана отсутствует четкое описание параметров, в соответствии с которыми осуществляется такое сюжетное развитие.
По мысли Ю.М. Лотмана, отличие сюжетного развития в лирике от прозаического сюжетостроения обусловлено тем, что оно базируется на единицах «низшего порядка, сопоставление и противопоставление которых составляет эпизод»3, где повышается семантизация плана выражения, не позволяющая обрести независимость содержательной стороне текста. Ю.М. Лотман отмечает, что «поэтический сюжет претендует быть не повествованием об одном каком-либо событии, рядовом в числе многих, а рассказом о Событии - главном и единственном, о сущности лирического мира»4, поэтому его отличает «предельная обобщенность, сведение коллизии к некоторому набору элементарных моделей, свойственных данному художественному мышлению»5. Обозначенная здесь возможность трансформации лирического «я» исключается в трактовке этой категории, данной Ю.Н. Чумаковым. По мысли ученого, лирический сюжет представляет собой точку лирической концентрации, явленную во временном развертывании событийной перспективы и не предполагающую онтологических изменений6. Иначе говоря, движение субъекта характеризуется иллюзорностью, а видимость его перемещения вскрывает неподвижность и внесобытийность его сюжетного маршрута по отношению к некоторым изначально заданным бытийным координатам.
В подробном исследовании проблемы лирического сюжета, предложенном Е.В. Капинос и Е.Ю. Куликовой, авторы отмечают принципиальную неоднозначность понимания данной категории. Акцентирование различных сторон поэтического текста позволяет по-разному интерпретировать его сюжетное развитие. Вместе с тем, справедливо указывая на многоаспектность данного понятия, исследователи настаивают на принципиальной «не-событийности» лирического сюжета, который оказывается своеобразным сюжетом-стилем, где представлена «не последовательность событий, а импульсивная “наметка” событийности, которая идет от текста и каждый раз оживает в том сегменте, где авторское поле соединяется с читательским»7.
Как следует из приведенных трактовок, большинство исследователей редуцируют событийность в лирическом тексте, замещая ее лирической концентрацией самополагания субъекта в художественном мире. Естественно, подобная редукция нередко оправдана дискурсивной организацией текста, однако нам представляется, что в тех случаях, когда лирическое высказывание начинает тяготеть к объективированному изображению лирической ситуации и движение субъекта обнаруживает ряд смысловых изменений в плане его идеологии, событийность лирического текста резко повышается, вскрывая столкновение нарративных и анарративных элементов в его сюжетостроении. Как справедливо отмечено В.И. Тюпой, «среди лирических текстов легко можно обнаружить образцы всех типов дискурсивности»8. Особенно явно проблема организации событийности в лирике обнаруживается при обращении к поэтическим текстам, в которых происходит совмещение собственно лирической (ментальной) и эпической (внешней) событийности. Безусловно, наррация как порождающий повествовательный акт здесь оказывается ослабленной в силу концентрации субъекта на проживании данного (условно вневременного) момента, но взаимообусловленность внешних и внутренних трансформаций создает напряжение сюжетного развития, в центр которого помещается изменение идеологем лирического субъекта и / или персонажей.
Представляется, что достаточно показательным материалом для выявления параметров событийности в лирическом тексте является поэтическое творчество О.Э. Мандельштама. Во-первых, в лирике поэта наблюдается активное взаимодействие различных дискурсивных типов организации высказывания, во многом обусловленное системной ассоциативностью и нелинейным характером сцепления структурно-семантических элементов текстовой организации. Во-вторых, в его поэзии в полной мере реализуется поэтика неотрадиционализма, которая, по определению В.И. Тюпы, основывается на «конвергенции (схождении) между “я” и “другим”»9, предполагающей принципиальный диалогизм сознаний, вступающих в эстетическую коммуникацию, и существенно расширяющей спектр событийных возможностей лирического высказывания. Как подчеркивает С.Н. Бройт-ман, в основе лирики О. Мандельштама находится пространственный, темпоральный и субъектный синкретизм, реализуемый во взаимопроникновении (часто сопротивляющемся верификации) «я» лирического субъекта и «другого» и порождающий «трагическую игру “я” и его субститутов»10. Естественно, что такая многоуровневая субъектная организация текста, сориентированная на самоценность поэтического слова и концентрирующая опыт предшествующей и современной мировой литературы (поэтика реминисценций), приводит к усложнению дискурсивной практики и особого структурирования событийного ряда.
В настоящей статье вопрос о свойствах лирического события мы рассмотрим на материале ряда стихотворений О. Мандельштама, вошедших в его вторую поэтическую книгу «Tristia» (1922), преимущественно сосредоточив внимание на титульном стихотворении - «Я изучил науку расставанья...» («Tristia») (1918), в котором четко реализуется ведущая модель лирического текстообразования, присущая лирике поэта 1910-х гг. Естественно, поэтика данного сборника уже неоднократно рассматривалась в работах, посвященных творчеству О.Э. Мандельштама11, однако вопрос о характере и принципах организации событийного ряда в его произведениях этого периода до сих пор требует детального описания. Как отмечает М.Л. Гаспаров, здесь четко обозначаются доминантные для творчества поэта векторы поэтической рефлексии, конструирующие его художественный универсум: «это любовь, смерть и (как фон) античность... и вера»12. Эти направления сюжетного развития текста, явленные в синтезе нарративных и анарративных элементов структурно-семантического устройства стихотворений, становятся ключевыми для понимания событийности в поэтике О.Э. Мандельштама.
Итак, обращаясь к структуре лирического сюжета в заглавном стихотворении книги - «Я изучил науку расставанья...», можно видеть отчетливое придание поэтическому высказыванию нарративных характеристик, предполагающих определенное смещение репрезентируемой ситуации в сферу повествования. Как неоднократно указывалось в мандельштамо-ведении, это стихотворение оказывается точкой пересечения «Скорбных элегий» Овидия и элегии Тибулла в вольном переводе К.Н. Батюшкова13. Данное обстоятельство оказывается значимым для описания сюжетного маршрута лирического субъекта, обусловленного двумя событийными центрами - разлукой (Овидий) и встречей (Тибулл).
В начале 1-й строфы лирический субъект эксплицирует собственное «я» в изображаемом мире, сдвигая темпоральную перспективу в прошлое, маркируя дистанцию между своими повествующей и повествуемой ипостасями, что акцентирует их идеологическое несовпадение: «Я изучил науку расставанья / В простоволосых жалобах ночных» [138]14. «Я» в прошлом, погруженное в исходное (внешнее) событие, очевидно не равно «я» в настоящем, рефлексивно осмысляющему свершившееся. Однако далее временной план «точки зрения» резко изменяется, маркируя иллюзорность изначального несовпадения: «Жуют волы, и длится ожиданье - / Последний час вигилий городских» [138], что приводит к ослаблению наррации. Лирический субъект обретает себя в моменте события - разлуки с любимой женщиной, с родным городом, с прежней жизнью. Точное указание темпоральной координаты - четыре часа утра («Последний час вигилий городских») - обеспечивает эмпирическую полноту проживаемой ситуации.
По наблюдениям Л.Г. Пановой, многим поэтическим текстам Мандельштама, составляющим сборник «Tristia», присуща «нарратив-ность, открывающая стихотворение, дающая временную дистанцию, и затем сменяемая изложением в настоящих временах, эту дистанцию перечеркивающую»15. Подобный принцип организации лирического высказывания обнаруживается в таких стихотворениях, как, например, «На розвальнях, уложенных соломой...» (1917), «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (1917), «Я не искал в цветущие мгновенья...» (1917), «На каменных отрогах Пиэрии...» (1919), «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...» (1920). Временная перспектива повествования здесь оказывается сдвинутой в прошлое, маркируя некое внешнее (сюжетно-фабульное) событие (ряд событий), которое является исходной точкой высказывания. Так, фабульный характер текстового развертывания эксплицирован в начале стихотворения «Золотистого меда струя из бутылки текла...»: «Золотистого меда струя из бутылки текла / Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела: / Здесь в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, / Мы совсем не скучаем, - и через плечо поглядела» [128]. Однако локализация «я» лирического субъекта в диегесисе сопровождается обозначением событийности иного, неэпического, порядка: художественный знак «струя» получает семантику «останавливающееся время» («Золотистого меда струя из бутылки текла / Так тягуче и долго...»), определяя дальнейший вектор поэтической рефлексии. Во второй строфе нарративный режим высказывания сменяется итеративным, и лирический субъект эксплицирует себя в обобщенно-личной форме глаголов 2-го лица: «Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни / Сторожа и собаки - идешь, никого не заметишь - / Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни: / Далеко в шалаше голоса - не поймешь, не ответишь» [128]. В субъектном восприятии ситуации акцентировано замедленное течение времени, задающее развитие лирического сюжета: внешнее событие - это только повод к ментальным трансформа- циям «я» субъекта. Подобный принцип сюжетостроения характеризует все указанные стихотворения.
Возвращаясь к структуре текста «Tristia», укажем, что далее в настоящем времени высказывания происходит удаление временной перспективы самого события: «И чту обряд той петушиной ночи, / Когда, подняв дорожной скорби груз, / Глядели вдаль заплаканные очи, / И женский плач мешался с пеньем муз» [138]. Эти колебания временного плана «точки зрения» лирического субъекта, где в настоящем просвечивает прошлое, а в прошлом настоящее, становятся сигналом внутреннего диалога. Ценностная экспрессия субъектного «я» здесь четко направлена на «другое» сознание, которое представлено пространственной и идеологической «точкой зрения» лирического персонажа, близкого субъекту аксиологически, но противоположного бытийно: метонимические знаки «заплаканные очи», «женский плач» оказываются индексом присутствия в повествуемом мире любимой женщины, с которой расстается герой. Как видно, на внешнее событие расставания накладывается ментальное событие единения с другим «я». Это совмещение ослабляет нарративное развертывание лирического сюжета, где уже не столько произошедшая когда-то ситуация меняет направление рефлексии, а проживание ее в данный момент как аксиологической константы жизненного пути лирического субъекта: он рассказывает о том, что свершилось в прошлом, но продолжает определять его идеологему в настоящем.
Во 2-й строфе нарративный дискурс сменяется перформативным высказыванием, где эмпирическое «я» трансформируется в универсализированное «мы»: «Кто может знать при слове - расставанье, / Какая нам разлука предстоит, / Что нам сулит петушье восклицанье, / Когда огонь в акрополе горит, / И на заре какой-то новой жизни, / Когда в сенях лениво вол жует, / Зачем петух, глашатай новой жизни, / На городской стене кры-лами бьет?» [138] Лирический субъект здесь занимает позицию объединения с чужим сознанием, и такое совмещение «точек зрения» приобретает амбивалентную семантику: «я» и «она» (на уровне сюжетно-фабульной организации текста) и «я» и «любой, кому приходится испытывать разлуку» (на уровне художественной рефлексии, инициированной событием расставания). Сознание героини стихотворения здесь мыслится нераздельным с сознанием лирического субъекта: уже не разлука определяет устремленность «я» к «другому», а незнание грядущего и предощущение новой жизни (усиленная двойным повтором в сильной позиции конца строки отсылка к «Vita Nuova» Данте). Образование этой идеологемы фактически становится следующим событием лирического повествования, меняющим аксиологию субъекта. Ментальным событием, манифестируемым здесь, оказывается конвергенция различных сознаний, вступающих в ценностный диалог.
Однако в этой строфе также просматриваются индексы исходного события, оказываясь своеобразным возвратом к нарративной составляю- щей лирического сюжета: оппозиция «вол» - «петух» («в сенях лениво вол жует» - «петушье восклицание», «Зачем петух, глашатай новой жизни, / На городской стене крылами бьет?»). В первой строфе они маркировали обстоятельства свершившегося расставания («Жуют волы, и длится ожиданье»; «петушиная ночь») и семантически были сопоставлены как признаки неизбежной разлуки. Здесь же взгляд лирического субъекта фокусируется на данных животных как на атрибутах универсальной ситуации обнаружения себя в точке между прошлым и будущим. В семантике знака «вол» актуализируется значение тяжести переживания исчезающего прошлого, тогда как «петух» приобретает значение неизвестности будущего мига и «повторения чего-то извечного, узнавания той самой ночи [ночи отступничества апостола Петра], предвестие гибельного рассвета и пророчество “какой-то новой жизни”»16.
Как видно, изначально заданный античный код здесь осложняется христианской культурной парадигмой, и «петушье восклицание» становится амбивалентным знаком, совмещающим значения трагического отречения от прошлого, воплощенного в событии разлуки, и обещание новых, неизвестных жизненных перипетий. Лирический сюжет, таким образом, совершает некоторое ассоциативное возвращение к изначальному событию, меняющее его рецепцию: «я» лирического героя, устремленное к обобщенному пониманию расставания, сохраняет его единичный вариант, рассказанный в начале стихотворения.
Включение принципиального «другого», а также собственного «я», представленного в различных субститутах лирического субъекта в ситуацию (расставание), заданную в изначальной точке высказывания, обусловливает усиление анарративных элементов, что принципиально меняет смысл изображаемого события: «И я люблю обыкновенье пряжи: / Снует челнок, веретено жужжит, / Смотри, навстречу, словно пух лебяжий, / Уже босая Делия летит! / О, нашей жизни скудная основа, / Куда как беден радости язык! / Всё было встарь, всё повторится снова, / И сладок нам лишь узнаванья миг» [138]. Как видно, здесь происходит проигрывание события неожиданного возвращения и встречи с любимой женщиной, Делией, в сжатом варианте повторяющее финал вольного перевода «Элегии из Тибулла» (1814) К.Н. Батюшкова (Ср.: «Беги навстречу мне, беги из мерной сени, / В прелестной наготе явись моим очам: / Власы развеяны небрежно по плечам, / Вся грудь лилейная и ноги обнаженны... / Когда ж Аврора нам, когда сей день блаженный / На розовых конях, в блистаньи принесет / И Делию Тибулл в восторге обоймет?»17). Однако если у К. Батюшкова отчетливо задана условность происходящего и событие встречи только ожидается, то у О. Мандельштама оно размывается по критерию «условность / реальность». Как отмечено Ю.И. Левиным, его поэтике присуща принципиально «неопределенная модальность описываемого события»18. Принцип повествования здесь качественно меняется - грамматическое на-

стоящее время предикатов утрачивает дейктические функции: становится принципиально неясно, происходит ли встреча на самом деле или же разыгрывается всецело в сознании лирического субъекта. Важной оказывается его репрезентация как ответа на неизвестность грядущего, напророченного «глашатаем новой жизни» - петухом - в момент разлуки. Идеологема ожидания чего-то нового обнаруживает четкую направленность на единственно значимую для лирического субъекта ценностно-смысловую константу: возвращения к возлюбленной. Говоря словами М.М. Бахтина, «герой вдруг находит себя в едином и единственном событии бытия в свете заданного смысла»19. Именно этот процесс сведения разноплановых ситуаций оказывается свидетельством аксиологической трансформации «я» лирического субъекта, обретающего внутреннюю целостность посредством единения с «другим» «я», что и получает статус центрального лирического события.
Соответственно, трансформируется лирический сюжет, в котором осмысление расставания как общечеловеческого удела сменяется преодолением его трагизма за счет эмоциональной концентрации на возможности вернуться. Художественные знаки «челнок», «веретено», порождающие семантику вечного возвращения (актуализация философских воззрений Ф. Ницше и их символистской рецепции) и соотнесенные с «пряжей» как символом ожидания (аллюзия опять же на «Элегию из Тибулла» К. Батюшкова, а также на гомеровскую «Одиссею» и автореминисценция из стихотворения 1917 г. «Золотистого меда струя из бутылки текла...». Ср.: «Ну а в комнате белой, как прялка стоит тишина. /.. .Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, / Не Елена - другая - как долго она вышивала?» [128]), в идеологическом плане «точки зрения» лирического субъекта порождают мысль о возможности преодоления разлуки. Кроме того, они воплощают дискретность репрезентируемой истории: присутствующая в них темпоральная семантика маркирует временную лакуну межу ситуацией расставания и событием встречи.
Вместе с тем, эфемерность и неопределенность этого события, протекающего в ментальной сфере субъекта, формируют отстраненный взгляд на себя извне: эмпирическое «я» оказывается не равно самому себе, что выражается в грамматическом противопоставлении 1-го («я») и 2-го («смотри») лица, называющих одного субъекта. Происходит удваивание «точки зрения», причем сюда же включается и ценностная позиция персонажа (Делии) как внеположного герою сознания. Здесь, как и в 1-й строфе, вновь реализуются три «точки зрения»: две определяют ценностный кругозор субъекта и одна представляет позицию героини. Лирическая концентрация героя на принципиальном «другом» оказывается разомкнутой в двух направлениях: на себя воображаемого и на персонажа.
Такая смысловая экспрессия реализуется в утверждении онтологической повторяемости любого события: «О, нашей жизни скудная основа, / Куда как беден радости язык! / Всё было встарь, всё повторится снова, /
И сладок нам лишь узнаванья миг» [138]. Почти дословно воспроизводя строку из известного стихотворения А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...» (1912), О. Мандельштам вступает с ним в ценностно-смысловой диалог. Повторение любого жизненного момента не безысходно, а прекрасно в своей ускоренности в гармонию когда-то уже свершившегося и сохраненного в памяти («И сладок нам лишь узнаванья миг»), В развитии лирического сюжета, как видно, здесь эксплицируется еще одно измерение: рассказ о разлуке-встрече с возлюбленной переносится в культурологическую плоскость, где лирический субъект возвращается к абсолюту мировой культуры.
В 4-й, финальной, строфе эмпирическое «я» вновь сменяется «я» универсальным. «Точка зрения» лирического субъекта здесь характеризуется внешней перспективой, обращенной в вечность, что, естественно, практически нивелирует наррацию. Фокусируя взгляд на героине стихотворения, он придает ей обобщенные черты: «Да будет так: прозрачная фигурка / На чистом блюде глиняном лежит, / Как беличья распластанная шкурка, / Склонясь над воском, девушка глядит» [139]. Мотив гадания о новой встрече, претекстами которого оказываются баллада В.А. Жуковского и стихотворение А.А. Ахматовой «Высоко в небе облачко серело...» (1911), определяет семантику финальной строфы: ожидание вновь оказывается сопряженным с неизвестностью. Гадание как иррациональный акт, попытка проникнуть за эмпирические пределы бытия меняет идеологему лирического субъекта: уже не «сладость узнаванья мига», а возможность встречи лишь после смерти направляют его рефлексию. Смысл события, изображенного в предыдущей строфе, перекодируется: возвращение неминуемо связано со смертью, где все временные планы сводятся в одну точку - в вечность.
В финальных строках событийность переводится в сферу онтологии мужского и женского начал: «Не нам гадать о греческом Эребе, / Для женщин воск, что для мужчины медь. / Нам только в битвах выпадает жребий, / А им дано гадая умереть» [139]. Событием становится слияние сознания лирического субъекта с «другим» сознанием, однако здесь совершенно четко определяется статус этого «мы»: «я» и «мужское» вообще как оппозиция «им» («она» и универсальное «женское»). Бытийная активность (и, как результат, путь к смерти) мужского начала ограничивается сферой земного мира («Нам только в битвах выпадает жребий»), тогда как женская сущность наделена способностью проникнуть за пределы смерти и обрести истинное знание о грядущем («А им дано гадая умереть»), то есть о неизбежном возвращении к утраченному. Финал стихотворения переводит изображаемые события из области рассказа о расставании и встрече в сферу медитативного постижения смерти и пути ее преодоления, которое и оказывается результирующим событием в изображаемом мире, акцентируя обретение субъектным «я» бытийной полноты.
Итак, событийный ряд в стихотворении О. Мандельштама «Я изучил науку расставанья...» составляют следующие ситуации: 1-я строфа - раз-

лука; 2-я строфа - предощущение грядущего; 3-я строфа - встреча; 4-я строфа - гадание, смерть, обретение вечности. Ведущим элементом сюже-тостроения здесь оказывается трансформация идеологического поля лирического субъекта, что обусловлено изменениями как внешних, смещающихся к повествовательному изложению, так и внутренних, ментальных событий. Наррация, то усиливаясь, то ослабевая, обеспечивает раскрытие эмпирической плоскости в динамике лирического сюжета: «я» субъекта обнаруживает себя в точке расставания с возлюбленной и обретает встречу с ней. Предельное сжатие повествовательных элементов, прежде всего -посредством реминисценций и актуализации широкого спектра претекстов (Овидий, Тибулл (К.Н. Батюшков), Данте Аллигьери, Гомер, Ф. Ницше, А.А. Блок, В.А. Жуковский, А.А. Ахматова), создает своеобразный «имплицитный» нарратив, предполагающий смысловое присутствие «чужих» нарративов в качестве структурно-семантического раскрытия идеологемы вечного возвращения. В свою очередь, образование ассоциативных связей с различными контекстами мировой культуры и сюжетное движение лирического субъекта в структуре текста определяются концентрацией его «я» на возможных ценностных направлениях исходной точки высказывания - события разлуки. Таким образом, взаимодействие нарративных, тяготеющих к фабульности, элементов организации текста и медитативного проживания лирических ситуаций порождают смысловую многомерность стихотворения: неизбежность единения с «другим» «я» и с мировой культурой в целом, дарующей гармонию существования.
Подобная онтологическая конвергенция с «другим» оказывается итоговым событием в большинстве стихотворений «Tristia». Так, в «На розвальнях, уложенных соломой...» лирический субъект осознает свою бытийную наполненность за счет отождествления с персонажами Смутного времени русской истории (одновременно убиенный царевич Дмитрий и Лжедмитрий): «Сырая даль от птичьих стай чернела / И связанные руки затекли: / Царевича везут, немеет страшно тело - / И рыжую солому подожгли» [120]. В стихотворении «Золотистого меда струя...» происходит взаимопроникновение эпического событийного ряда (посещение виноградника в саду) и лирической событийности (осознание себя во вневременных координатах эллинизма), что способствует осознанию субъектом себя как наследника древнегреческой системы мировоззрения, где его ментальными двойниками оказываются Ясон и Одиссей: «Золотое руно, где же ты, золотое руно? / Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, / И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, / Одиссей возвратился, пространством и временем полный!» [128]. Это единение может осознаваться как отсутствующее в мире лирического субъекта, но страстно желаемое им. Например, в стихотворении «На каменных отрогах Пиерии...» (1919) воззвание лирического «я» намечает четкий вектор его ценностных устремлений, презентация которых получает событийный статус: «О, где же вы, святые острова, / Где не едят надломленного хлеба, / Где только мед, вино и молоко, / Скрипучий труд не омрачает неба / И колесо вращается легко» [140].
Итак, изложенное выше позволяет обозначить ряд параметров лирической событийности, характерных для поэтического мира О. Мандельштама. Во-первых, событийный статус маркируется принципиальным осознанием «я» лирического субъекта происходящих изменений (или корректив) в его системе ценностей, что эксплицирует нетождественность субъектного са-мополагания в начале сюжетного развития стихотворения и в его финале. Во-вторых, лирическое событие образуется за счет перемещения акцента с «я-для-себя» на «я-для-другого», причем этим «другим» может являться как принципиально другое сознание (лирический персонаж, адресат высказывания), так и сдвинутая во времени позиция лирического субъекта, данная через ряд различных его ипостасей. В-третьих, событийность у О. Мандельштама часто задается посредством точечного обозначения чужих нарративов (исторические события - «На розвальнях, уложенных соломой.. .», «Я не искал в цветущие мгновенья...», факты античной мифологии - «Золотистого меда струя...», «На каменных отрогах Пиэрии...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», свернутые представления сюжетов предшествующей мировой литературы - «Я изучил наук расставанья...», «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа...»), усиливая стремление лирического субъекта к ценностно-смысловому единению с мировой культурой как личной бытийной данностью. Соответственно, результирующим событием лирического высказывания оказывается обретение полноты бытия как абсолютной аксиологической константы.
Таким образом, структурно-семантическая организация событийного ряда в поэзии О. Мандельштама показывает, что если в эпическом нарративе аксиологию меняет некое бытовое событие, то в лирическом тексте само изменение системы ценностей субъекта получает событийный статус. По сути, лирика становится сообщением о бытии рефлектирующего сознания, в котором актуализируется его соприкосновение с сознанием принципиального «другого» (это может быть сам лирический субъект, представляющий себя в ином ракурсе, лирический персонаж, некая универсальная культурная маска или же целая система знаков, маркирующих определенную поэтическую традицию). Такое соединение разных сознаний изменяет аксиологические параметры изображаемого мира и оказывается событием лирического высказывания.
Список литературы Структура лирической событийности: "Tristia" О. Мандельштама
- Корман Б.О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов//Корман Б.О. Избранные труды. Теория литературы. Ижевск, 2006. С. 329-330
- Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике//Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 197
- Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха//Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 2001. С. 107
- Хроника. 3-й семинар «Вопросы сюжетосложения»//Сюжетосложение в русской литературе. Даугавпилс, 1980. С. 159
- Капинос Е.В., Куликова Е.Ю. Лирические сюжеты в стихах и прозе XX века. Новосибирск, 2006. С. 268
- Тюпа В.И. Нарратология и анарративность//Нарративные традиции славянских литератур. Повествовательные формы средневековья и нового времени. Новосибирск, 2009. С. 14
- Тюпа В.И. Литература и ментальность. М., 2009. С. 180
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX -начала XX века в свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура. М., 1997. С. 269
- Ошеров С.А. «Tristia» О. Мандельштама и античная лирика//Античность в культуре и искусстве последующих веков. М., 1984. С. 337-353
- Черашняя Д.И. Авторское «Мы» в «Tristia»//Черашняя Д.И. Этюды о Мандельштаме. Ижевск, 1992. С. 22-28
- Бройтман С.Н. Русская лирика XIX -начала XX века в свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура
- Левин Ю.И. Заметки о «крымско-эллинских» стихах О. Мандельштама//Левин Ю.И. Избранные работы: Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 75-97
- Гаспаров М.Л. Осип Мандельштам. Три его поэтики//Гаспаров М.Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб., 2001. С. 193-259
- Гаспаров М.Л. Осип Мандельштам. Три его поэтики//Гаспаров М.Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб., 2001. С. 214
- Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М., 1993
- Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. С. 453
- Сурат И.З. Лирические сюжеты//Сурат И.З. Опыты о Мандельштаме. М., 2005. С. 70
- Батюшков К.Н. Стихотворения. М., 1987. С. 37
- Левин Ю.И. О соотношении между семантикой поэтического текста и внетекстовой реальностью (заметки о поэтике О. Мандельштама) // Russian Literature. 1975. № 10/11. P. 149
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности//Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 233