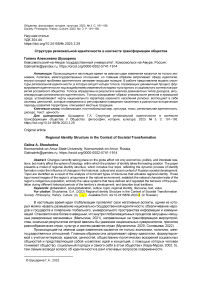Структура региональной идентичности в контексте трансформации общества
Автор: Шушарина Галина Алексеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
Происходящие в настоящее время на земном шаре изменения касаются не только экономики, политики, межгосударственных отношений, но главным образом затрагивают сферу идеологии, внутри которой проблема идентичности занимает ведущие позиции. В работе представлена модель структуры региональной идентичности, в которую входят четыре топоса, отражающих динамичный процесс формирования идентичности под воздействием изменений историко-культурного и социального контекстов развития российского общества. Топосы определены в результате анализа доминантных типов дискурса, актуализирующих региональную идентичность. Топосы раскрывают образы уникальности региона в природной среде, устанавливают черты национального характера коренного населения региона, воплощают в себе системы ценностей, которые определяли и регулировали поведение населения в различные исторические периоды развития территории, описывают местные традиции.
Глобализация, постглобальный мир, культура, топос, региональная идентичность, дискурс, текст, ценность
Короткий адрес: https://sciup.org/149142486
IDR: 149142486 | УДК: 304.44 | DOI: 10.24158/fik.2023.3.29
Текст научной статьи Структура региональной идентичности в контексте трансформации общества
Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия, ,
,
В настоящее время идея глобализации проявляет свои негативные аспекты, одним из которых можно назвать размывание национально-государственной идентичности, обезличивание народов и государств и появление глобального, универсального пространства информации и коммуникаций. Становится все более очевидным, что внутри глобализационных процессов запущены «мощные реверсивные механизмы» (Малыгина, 2021), направленные на трансформацию мироустройства, конечным результатом которой явились бы уважение национальных суверенитетов, принятие разнообразия всех стран, культур и систем развития стран (Мусалитина, 2020; Соловьева, 2022).
Происходящие на земном шаре изменения касаются не только экономики, политики, межгосударственных отношений. Главным образом они затрагивают сферу идеологии, формулируемой с учетом интересов, идеалов, ценностей, общественно-политических воззрений социальных общностей и представляющей собой «комплекс идей и концепций, с помощью которых человек понимает общество, социальный порядок и самого себя в этом обществе» (Кара-Мурза, 2002: 5), тем самым возводя вопрос об идентичности в ранг ключевых вопросов современности.
Дискуссия об идентичности в многонациональной, занимающей огромную разнородную территорию России велась широко и давно, что было связано с теми кризисами, конфликтами и войнами, через которые страна за всю историю существования не раз проходила, то ослабевая свою идентичность, то укрепляя ее. В данный момент Российская Федерация, приняв на себя мощный санкционный, военный, информационный удар со стороны США и их сателлитов, оказалась на передовой всех глобальных изменений и стала одним из ведущих акторов, определяющих дальнейший путь развития человечества, выйдя к новой развилке цивилизационного самоопределения. Поэтому особенно важно понимать структуру идентичности населения страны, механизмы ее конструирования, пути, способы и условия ее трансформации.
Тщательное изучение использования термина «идентичность» в научной литературе позволило зафиксировать сдвиги в значении этого «ключевого слова современности» (Моран, 2021). Расширение трактовки идентичности согласуется с мнением П. Рикера, который указывает на семантическую двусмысленность данного термина (Рикер, 1995). С одной стороны, слово «идентичность» в своем значении имеет сему «аналогичное, одинаковое», с другой – в значении представлена сема «различный, изменяющийся». Таким образом, можно говорить одновременно о статичной и динамичной природе идентичности. По мнению П. Рикера, антиномия тождественности и самости неизбежна: «Дело в том, что употребление одного и того же слова для обозначения личности от рождения до смерти предполагает существование какой-то неизменной основы. С другой стороны, во внутреннем опыте человека все подвержено изменениям» (Рикер, 1995). Вслед за французскими философами Э. Лакло и Ш. Муффом считаем, что четкие различия между личной и коллективной типами идентичностей отсутствуют потому, что «оба типа организованы с помощью одних и тех же дискурсивных процессов и по одним и тем же принципам» (Laclau, Mouffe, 1985: 113). Подобная двусмысленность термина «идентичность», на наш взгляд, объясняет существование региональной и национальной коллективной идентичности. Уникальность и различаемость региона на фоне других определяет его изменчивую региональную идентичность, тогда как идентификация региона относительно тех коллективных норм, законов, обычаев, которые приняты в государстве, где осуществляется бытие конкретного человека, определяет национальную коллективную идентичность, актуализируя «устойчивость, целостность, однородность идентичности» (Брубейкер, 2012: 84).
Критический обзор научных работ, предметом которых является идентичность, позволил перечислить основные характеристики комплексного и многомерного понятия идентичности:
-
– идентичность не является заданной и жесткой категорией, она формируется в историческом контексте в определенном пространстве и времени и сопряжена с социальным, культурным, политическим, экономическим развитием общества (Багиян, Нерсесян, 2019: 168);
-
– ведущая роль в конструировании идентичности отведена дискурсам, поскольку все социальные практики имеют дискурсивную природу; физические и социальные объекты существуют, но сами по себе не обладают значениями, которые им приписываются только в дискурсе (Фуко, 1996);
-
– основанием для конструирования идентичности локальной общности служат общие традиции, духовные ценности, верования, мифологемы, идеологемы и пр., т. е. все то, что составляет культурное пространство общей территории.
Обозначенные характеристики идентичности как комплексного феномена подчеркивают актуальность тезиса о необходимости рассмотрения и анализа идентичности прежде всего, как относительно устойчивого поля смыслов и знаков, упорядочиваемых группами дискурсивных практик (Филлипс, Йоргенсен, 2008).
Пространственно-временные характеристики идентичности позволяют использовать для ее изучения соответствующую терминологию, в частности термин «топос», при этом расширяя его значение в контексте дискурсивной парадигмы анализа, в которой топос предстает как «система имплицитных, обладающих устойчивым набором смыслов образов, связанных с культурной памятью и вечными ценностями»1. Важно в этом определении то, что топосы не являются принадлежностью индивидуального сознания, они коллективны, несмотря на проявление в личном опыте. В настоящем исследовании мы трактуем топос как «тематические и аксиологические центры коммуникации, которые позволяют расставить акценты в дискурсе и способствуют конструированию идентичности» (Данкова, Дубровская, 2018: 55). В данном случае структура региональной идентичности рассмотрена как набор повторяющихся в дискурсах, формирующих региональную идентичность топосов, в которые объединяются прошедшие и современные явления действительности, имеющие пространственно-временной оттенок значения, но не сводящиеся к нему (Макогон, 2013: 89).
Эмпирическим материалом для настоящей статьи послужил кейс регионального города Комсомольска-на-Амуре. Анализу подверглись разнообразные виды текстов, включая краеведческие и публицистические работы, печатные издания и электронные ресурсы средств массовой информации, городские архивные документы, тексты художественной и фольклорной литературы. Основная цель анализа заключалась в выявлении дискурсивных практик, транслирующих региональную идентичность. Полученные результаты, представленные рядом маркеров, стратегий и тактик, позволили определить таксономию доминантных дискурсов, конструирующих и репрезентирующих региональную идентичность. Таксономия включает фольклорный, героический, художественный, массмедийный дискурсы. Фольклорный и художественный дискурсы, ориентированные на оценочное воссоздание, повествование и описание родной природы, истории локус-центра региональной идентичности, реконструируют аксиологическую феноменологию «топоса» региональной идентичности и тем самым истоки аутентичности «габитуса» дальневосточников, что позволяет определить основания формирования региональной идентичности, отличной от других. Героический дискурс, направленный на раскрытие качеств личности, репрезентирующей идентичность, актуализирует «дальневосточный характер» на примере имагинативных и реальных жителей, которые входят в региональную мифологию персонажей. Массмедийный дискурс ориентирован на современные концептуализацию, осмысление и переосмысление региональной идентичности человека в ценностной оппозиции «горжусь – не горжусь». Очевидно, что некоторые типы дискурса участвуют в формировании структуры региональной идентичности одновременно, что объяснимо с точки зрения понимания текста как полидискурсного образования.
Исследование позволило определить четыре топоса «мы» в структуре региональной идентичности: мы – жители региона – часть генетического кода населения России , мы – жители региона – часть истории России , мы – жители региона – часть глобализирующегося мира, мы – жители региона – часть постглобального мира . Выстроенная цепочка отражает динамичный процесс формирования идентичности под воздействием изменений историко-культурного и социального контекстов развития российского общества. Первые два топоса относятся к следующим друг за другом фазам дифференциации и выработки авто- и гетеростереотипов (Казакова, 2018) и включают в себя одновременно осмысление норм и ценностей жителей региона в противовес жителям страны и осмысление истории своего края/области, его значения в прошлом и настоящем страны. Третий и четвертый топосы связывают идентификацию общества региона в пространстве глобального и постглобального мира как его части, составляя в терминологии концепции Г.М. Казаковой фазу формулирования стратегических задач, стоящих перед регионом, и/или регионального идеала.
Топосы « мы – жители региона – часть генетического кода населения России » и « мы – жители региона – часть истории России » определяют ключевые для понимания идентичности регионального жителя представления об уникальности своего региона и его жителей, характер которых формировался в ходе истории в реальных природных и социальных условиях, породивших систему ценностей. Последняя обусловливает и регулирует поведение населения и в конечном счете конструирующую региональную идентичность.
Топос « мы – жители региона – часть глобализирующегося мира » отражает многоязычие регионального социокультурного пространства с уклоном в сторону преобладания английского языка и англосаксонской культуры как ключевую характеристику для понимания идентичности жителя региона в определенный период. Точную характеристику такого мира и его социокультурной ситуации дает И.В. Малыгина: «Постоянно нарастающее социальное и культурное разнообразие на фоне деконструкции «больших нарративов», эмансипация человека от социальных и культурных общностей (этнонациональных, религиозных и т. д.) с плотными ценностно-смысловыми границами, переформатирование традиционных ценностных систем, пластичность нормативных границ (например, гендерных), плюрализация культурных языков и кодов, растущее влияние массовой культуры и ценностей потребительского общества» (2019: 173–174). Ряд исследователей подчеркивают, что глобальный мир – это мир без человека, но мир потребителей, измеряющих свою успешность и социальную значимость по известной пирамиде потребностей А. Маслоу и неспособных осознавать ценности высокого порядка без удовлетворения физиологических потребностей.
Топос «мы – жители региона – часть постглобального мира» еще находится в стадии формулирования, поскольку в данный момент выдвигаются многочисленные гипотезы об основных концептах постглобального мира, будет ли он миром национальных и суверенных государств, способных к самостоятельному выбору пути развития; миром «оргпроектов», сформированным вокруг технологических центров и ресурсных пространств; или миром корпораций, диктующих государствам свои правила. Тем не менее исследователи утверждают, что обязательным условием кон- струирования постглобального мира будет возвращение человека, выходящего из информационного общества и способного обратиться к идеальному (в той или иной форме)1. При этом культура станет «мягкой силой» постглобального мира (Золотарев, 2019; Малыгина, 2021).
Представленная в настоящем исследовании модель не претендует на исчерпывающий анализ дискурсов, актуализирующих пространство региональной идентичности. Ни одно исследование не может вместить в себя весь комплекс элементов, составляющих конструкт региональной идентичности, но может высветить отдельные наиболее значимые элементы. Анализ указанных в статье доминантных дискурсов позволяет выявить через мифологические и мифопоэтические синкретические образы уникальность региона в природной среде, установить черты национального характера его коренного населения, сформулировать системы ценностей, которые определяли и регулировали поведение населения в различные исторические периоды развития местности, описать региональные традиции.
Список литературы Структура региональной идентичности в контексте трансформации общества
- Багиян А.Ю., Нерсесян Г.Р. Дискурсивные маркеры профессиональной идентичности (на материале английского научно-академического дискурса) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12, № 7. С. 167-170. https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.7.35.
- Брубейкер Р. Этничность без групп. М., 2012. 408 с.
- Данкова Н.С., Дубровская Т.В. Групповая идентичность байкеров в аксиологическом аспекте (на материале интернет-коммуникации) // Научный диалог. 2018. № 7. С. 53-65. https://doi.org/10.24224/2227-1295-2018-7-53-65.
- Золотарев Д.Ю. Новые форматы постглобального мира // Экономические стратегии. 2019. Т. 21, № 4. С. 34-41. https://doi. org/10.33917/es-4.162.2019.34-41.
- Казакова Г.М. Регион как пространство-время идентичности. Топохрон и хронотоп региональной идентичности // Культура культуры. 2018. 1 (17). С. 10.
- Кара-Мурза С.Г. Идеология и мать ее наука. М., 2002. 253 с.
- Макогон Т.И. Габитус, идентичность, обусловленность и когерентность в топологике местных сообществ // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 323, № 6. С. 88-96.
- Малыгина И.В. Культурные идентичности в постглобальном мире // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2021. № 13 (855). С. 348-361. https://doi.org/10.52070/2542-2197_2021_13_855_348.
- Малыгина И.В. Идентичность в пространстве пост-культуры // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. 2019. № 13 (829). С. 173-185.
- Моран М. Идентичность и политика идентичности: культурно-материалистическая история // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2021. № 1. С. 15-39.
- Мусалитина Е.А. Влияние глобализации на трансформацию китайской национальной культуры // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2020. № 8 (48). С. 47-51.
- Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. Московские лекции и интервью. М., 1995. 160 с.
- Соловьева Л.Н. Идентичность в условиях цифровой трансформации: теоретико-методологический фокус // Общество: философия, история, культура. 2022. № 11. С. 76-81. https://doi.org/10.24158/fik.2022.11.12.
- Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ: теория и метод. Харьков, 2008. 352 с.
- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: работы разных лет. М., 1996. 446 с.
- Laclau E., Mouffe C. Hegemony and socialist strategy. Towards a radical democratic politics. L., 1985. 197 р.