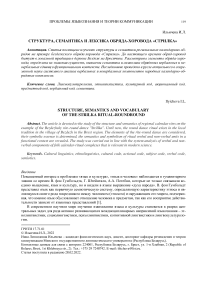Структура, семантика и лексика обряда-хоровода "стрилка"
Автор: Ильичева Инна Леонидовна
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Проблемы языкознания и теории коммуникации
Статья в выпуске: 2 (134), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению структуры и семантики региональных календарных обрядов на примере бездежского обряда-хоровода «Стрилка». До настоящего времени обряд-хоровод бытует в локальной традиции в деревне Бездеж на Брестчине. Рассмотрены элементы обряда-хоровода, определена их знаковая сущность, выявлены семантика и символика обрядовых вербальных и невербальных единиц в функциональном контексте. Исследование проведено в русле актуального в современной науке системного анализа вербальных и невербальных компонентов народных календарно-обрядовых комплексов.
Лингвокультурология, этнолингвистика, культурный код, акциональный код, предметный код, вербальный код, семиотика
Короткий адрес: https://sciup.org/148324356
IDR: 148324356
Текст научной статьи Структура, семантика и лексика обряда-хоровода "стрилка"
Повышенный интерес к проблемам «язык и культура», «язык и человек» наблюдается в гуманитарном знании со времен В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, А.А. Потебни, которые не только связывали воедино мышление, язык и культуру, но и видели в языке выражение «духа народа». В. фон Гумбольдт представил язык как первичную семиотическую систему, определяющую характеристику этноса и являющуюся своего рода посредником между человеком (этносом) и окружающим его миром, подчеркивая, что именно язык обусловливает отношение человека к предметам, так как его восприятие действительности зависит от языковых представлений [1].
В современном научном мире изучение взаимосвязи языка и культуры становится в разряд центральных задач для ряда активно развивающихся междисциплинарных направлений языкознания – этнолингвистики, социолингвистики, психолингвистики, когнитивной лингвистики и лингвокультуроло-гии.
ГРНТИ 17.71.01
Инна Леонидовна Ильичева – кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры речеведения и теории коммуникации Минского государственного лингвистического университета (Республика Беларусь).
Контактные данные для связи с автором: 224001, Республика Беларусь, г. Брест, ул. 1-я Хлебная, 2 (Republic of
Статья поступила в редакцию 28.02.2022.
В своих работах известный российский лингвист С.М. Толстая указывает на возможный двойственный – лингвистический и культурологический – ракурс видения проблемы «язык и культура». Она считает, что в поле зрения лингвиста попадает то, «как язык отражает стоящую за ним культуру, наивный образ мира, а еще больше то, чтó в самом языке (в семантике, сочетаемости, в синтаксисе, в лексической системе и т.п.) обусловлено культурой и мотивировано картиной мира» [12, c. 109]. В отличие от лингвистов, культурологи рассматривают язык как культурный код, одну из форм выражения культуры (наряду с другими кодами и формами: ритуалом, искусством, фольклором и т.д.). Между вербальным языком и культурой (традиционной народной культурой) существует очевидный изоморфизм, объясняемый сходством их функций – когнитивных, коммуникативных, социальных и пр.» [12, c. 109].
В.А. Маслова справедливо отмечает, что культура является платформой для формирования и функционирования разноплановой парадигмы образов, выполняющих знаковую функцию, которые в семиотике культуры называются культурными кодами [9, c. 177].
Любая форма действительности, начиная с любого объекта окружающего нас мира и до артефакта, кроме своих прямых номинативных функций может получать вторичные знаковые функции, благодаря которым создается добавочное, культуроносное значение. По Д.Б. Гудкову, «имена, называющие подобные объекты, образуют связанные друг с другом вторичные семиотические системы, которые мы называем кодами (соматическим, зооморфным, природно-ландшафтным и др.) национальной культуры» [2, c. 39].
Коды культуры – универсальный по своей природе феномен. В национальном пространстве кодам культуры отводится приоритетное положение, они выступают структурообразующими элементами пространства. Сама культура при этом выступает как совокупность различных кодов [2, c. 39].
В.В. Красных описывает код культуры как «сетку, которую культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его. Коды культуры соотносятся с древнейшими архетипическими представлениями человека. Собственно говоря, коды культуры эти представления и кодируют» [6, с. 232]. Язык, будучи важнейшим средством хранения и передачи знаний, является, по мнению Ю.М. Лотмана, оптимальным средством выражения культурных смыслов [7, c. 487]. Языковые знаки становятся репрезентантами смыслов культуры, и поэтому наиболее ярким воплощением кодов культуры.
В.А. Маслова и М.В. Пименова понимают коды культуры как «специфический для каждой культуры набор социальной практики, свод ценностей и правил игры коллективного существования, выработанную людьми систему нормативных и оценочных критериев, сквозь которые народ постигает мир [10, c. 3].
В современных славистических этнолингвистических исследованиях (Толстой, 1995; Толстая, 1988; Левинтон, 1975; Гура, 1977; Седакова, 1983) рассмотрение обряда происходит в плоскости организованного целого, лингвовизуального комплекса, выраженного семиотическим языком культуры. Семиотически осложнённые объекты попадают в фокус исследовательского интереса лингвистов с целью изучения заложенной в них семантики, которая имеет особый язык манифестации своей знаковой сущности. Согласно академику Н.И. Толстому, всякий обряд может быть проанализирован как связный текст, иными словами, как последовательная цепочка действий ( акциональный план обряда), обращений к предметам ( предметный план ), которые обладают символическим смыслом, и связанных с ними словесных выражений ( вербальный план ).
Разделяя точку зрения Н.И. Толстого, мы полагаем, что каждая национальная культура, в том числе и региональная, отличается набором специфических языковых образов, символов, образующих особую систему кодов, с помощью которой носитель языка описывает окружающий его мир, используя ее в интерпретации не только внешнего, но и своего внутреннего мира [12].
Методы
Предметом данного исследования являются терминологическое оформление, акциональная, символическая и функциональная стороны обряда-хоровода «Стрилка», представляющего собой неотъемлемую часть календарной обрядности жителей Брестского региона.
Теоретической и методологической основой исследования явились труды по этнолингвистике и лингвокультурологии ряда ученых: Н.И. Толстого, С.М. Толстой, Д.Б. Гудкова, В.В. Красных, В.Н. Телия, В.А. Масловой, М.Л. Ковшовой, М.В. Пименовой, Н.Р. Ойноткиновой.
Цель исследования заключается в составлении целостного представления о структуре, семантике, вербальном представлении обряда-хоровода «Стрилка» и в попытке определения таким образом генезиса региональных обычаев. Указанная цель предполагает решение следующих задач: (1) раскрыть конституирующие элементы и представить инвариантное описание обряда-хоровода «Стрилка» на основе анализа всех его компонентов; (2) описать семантику и символику вербальных и невербальных единиц обряда-хоровода посредством функционального контекста; (3) проанализировать лексику, обслуживающую обряд-хоровод, с точки зрения семантики, прагматики, ареалов ее бытования на исследуемой территории.
Изучение обряда-хоровода «Стрилка» как культурного текста, включающего в себя семиотически маркированные элементы, связано с определенными трудностями. Интерпретация лексической составляющей обряда только в рамках лингвистического знания представляется недостаточной, поскольку ее поликодовая сущность тесно связана с этнографией, культурой и мировоззрением этноса. Исходя из этого можно сказать, что метод изучения и анализа обряда-хоровода не может быть одним. Чтобы установить смысловой объем и структурные параметры анализируемого обряда-хоровода, необходимо использовать комплексный подход, сочетающий общенаучные (анализ и синтез) и лингвистические методы (описательный, структурно-функциональный, структурно-семантический) с приемами семиотического анализа явлений языка и культуры, ретроспективной реконструкции.
Результаты и их обсуждение
Прежде чем приступить к детальному описанию обряда-хоровода «Стрилка», остановимся на некоторых исторических фактах. Селение Бездеж впервые упоминается в мае 1409 года. В то время данный населенный относился в Здитовской волости Великого княжества Литовского. Письменные источники представляют селение Бездеж как дар великого князя Витовта костелу Пресвятой Девы Марии в Троках.
Дальнейшую судьбу селения Бездеж во многом определили события 1566 и 1783 годов. Получив сначала право местечка (1566 г.), потом города, Бездеж начинает славиться своим ткачеством и с 1783 года входит в число королевских имений. С 1795 года местечко Бездеж относится к России. Жители местечка активно занимаются земледелием и ремеслом, здесь регулярно проводятся ярмарки, появляется первая школа, а в 1825 году возводится каменное здание. В настоящее время деревня Бездеж представляет собой агрогородок в Дрогичинском районе Брестской области, где проживают 1200 человек.
В 1999 году в деревне Бездеж открывается музей народного творчества «Бездежскі фартушок» – единственный в мире музей фартуков. Следуя этнокультурным традициям, работники музея практически полностью восстановили полесский быт начала XX века. В 2009 году музей удостоен специальной премии Президента Республики Беларусь за создание уникальной коллекции аутентичных узоров народного творчества, значительный вклад в сохранение и популяризацию местных ремёсел, обрядов и диалектов. Ежегодно по инициативе работников музея на Пасху проводится уникальный весенний обряд-хоровод «Стрилка», который внесен в Список нематериального наследия Беларуси.
Календарные праздники выступают одной из доминантных составляющих любой народной культуры, поскольку в них устойчиво манифестируются базисные основы ментальности этноса. Народный календарь состоит из целого ряда комплексов, в которых находят свое отражение бытовые, фольклорные, мифопоэтические и этнолингвистические традиции. Обрядность во все времена была значимым атрибутом жизни этноса и выполняла важнейшие общественные функции. Ритуал, по справедливому мнению Н.Б. Мечковской, является исходной знаковой формой поведения человека [11]. Она пишет, что «в филогенезе ритуальное действие было первым семиотическим процессом, который формировал мифологические представления первобытных людей и другие семиотические возможности коммуни-ницирования – ритуальный танец, протомузыку, скульптурные, рельефные и наскальные изображения, а в последствии также и звуковой язык» [11, c. 279]. Разделяя данную точку зрения, мы полагаем, что именно ритуальное действие способно позволить человеку ощущать себя одновременно отдельной личностью и членом определенного этнического, социального, возрастного сообщества. Знание традиционных ритуалов и их соблюдение являются важными факторами сохранения и развития этнического самосознания.
Свое исследование обряда «Стрилка» как текста (с помощью знака [и] нами условно маркируется полумягкость предшествующего согласного в полесском диалекте – примечание автора) начнем с определения его смыслообразующих элементов. Структурно обряд-хоровод «Стрилка» можно представить в виде блоков, которые характеризуются наличием акционального, семантического, функционального и символического планов.
«Стрилка» - весенний обрядовый хоровод, он символизирует завершение Великого поста, приход весны. Для выражения ритуальных блоков обряда-хоровода применяются разные коды: языковой (вербальный), локативный , акциональный, персонажный и предметный (невербальный). Обрядовый хоровод в Бездеже Дрогичинского района проходит с конца XVIII века. В 1874 году в Бездеже был возведен православный храм в честь Святой Троицы и именно возле этой церкви, на площади (« мисты »), после « Нешпора », что на местном языке обозначает церковное богослужение на Пасху, и крестного хода начинается обряд-хоровод «Стрилка».
Нами установлено, что персонажный код представлен двумя группами основных участников обряда-хоровода, к которым относятся « заводаторы » и « зернышки ». По традиции в обряде-хороводе участвуют только женщины и девушки. Взрослые и дети, взявшись за руки, поют песни, но ходят не по кругу, а стрелой. По своей форме хоровод напоминает треугольный наконечник стрелы. Внутри хоровода, у основания каждого из трех визуальных углов, ставятся парами девочки - «зернышки», которые призваны символизировать пшеничные зернышки и плодородие.
Старейшим жительницам полесской деревни, перенявшим этот обряд от своих мам и бабушек, отводится важная роль «заводаторов». Роль «зернышек» исполняют девочки в возрасте от 9 до 14 лет, которые разбиваются на группки по трое и символизируют будущий урожай. Обряд «Стрилка» символизирует завершение Великого поста, начало весенних полевых работ и период проведения народных гуляний и торжеств. Такой обряд является своего рода обращением к высшим силам с надеждой на счастье и здоровье для детей и взрослых, на новый богатый урожай.
В обряде-хороводе большая роль отводится не только пению, но и движениям, поскольку движения весеннего хоровода или обрядовой процессии в отдельных славянских традициях связываются с ростом культурных растений. Исходя из этого в «Стрилке» не только пение, но и танцевально-двигательный элемент (хороводы и шествия) имеет общую магическую функцию - повысить урожайность земли.
Вокруг этих самых «зернышек» и водят хоровод более взрослые участницы, при этом поют песню: да лыты, лыты, стрылка, по горам, по долынам, / Да нысы, нысы, стрылка, да дывоцькую красу, / Бо дывоцькая краса ў мыді потопае, / У воді вырынае, тыхо йдэ, тыхо йдэ. / Да лыты, лыты, стрылка, по горам, по долынам, / Да нысы, нысы, стрылка да жаноцькую красу, / Бо жаноцькая краса ў смолі потопае, / У воді вырынае, тыхо йдэ, тыхо йдэ… (записано Марией Михайловной Остапович, участницей обряда-хоровода «Стрилка», директором музея народного творчества «Бездежскi фартушок»).
Песни, как любой устный жанр, имеют свойство вербально модифицироваться в процессе передачи из поколения в поколение. Но, как справедливо отмечает С.М. Толстая, перетекая друг в друга, они «пересекаются и взаимодействуют, скрещиваются и дробятся, специализируются и унифицируются, актуализируются и угасают, создавая для каждой данной эпохи и каждой языковой и литературной традиции свой неповторимый узор» [13, с.78].
Терминологическое вербальное оформление обряда-хоровода позволяет увидеть в «Стрилке» обрядность жизненного цикла и доминирующее женское начало ( дывоцькую красу, дывоцькая краса, жа-ноцькую красу, жаноцькая краса ). Манера исполнения песни свидетельствует о синкретизме календарных произведений. Об этом говорит и единство магических и эстетических функций, заклинательные интонации. В основе находится синкретизм слова и действия, что выражается в многократно повторяющихся заклинательных императивах ( лыты, нысы ). Наряду с лексическим повтором синтаксический параллелизм усиливает коммуникативную и экспрессивную значимость целого текста. В песне отчетливо прослеживается и локативный код, представленный пространственными характеристиками ( по горам, по долынам, у водi ). Хоровод стремительно движется по кругу, будто стрелка часов, что отмеряет время. Такой ход, как заложено в древней христианской традиции, символизирует бег времен и невидимую связь ныне живущих с давно ушедшими предками.
После танца-хоровода, по местной традиции, начинаются пасхальные гуляния. Жители деревни Без-деж ходят в гости и дарят друг другу крашеные яйца. В дни православных праздников (Крещение, Пасха, Успение и др.) издавна преобладали христианизированные формы обрядности с участием священника, служением молебнов и организацией крестных ходов.
Различные предметные реалии в ходе развития человечества, в понимании М.Л. Ковшовой, обретают в сознании человека вторичный смысл, в котором материальное переосмысливается и получает духовно-нравственное и социально-моральное истолкование. Через такое движение от буквальных смыслов к вторичным осуществляется, по словам М.Л. Ковшовой, культурная семиотизация мира [5, c. 9]. Семиотизация нуждается в знаках, и человек, познавая мир и стремясь выразить свои знания и миропонимание, находит знаки для овеществления своих представлений в разных языках – в естественном языке, в литературе, разных видах искусства и в других сферах деятельности.
Феномены культуры, как верно отмечает М.А. Федоров, «предстают как носители информации, а их становление является выражением человеческой способности к символизации» [14, с. 25]. Символ никогда не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу культуры – он всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее. Память символа всегда древнее, чем память его несимволического текстового окружения.
Ю.М. Лотман писал, что, «являясь важным механизмом памяти культуры, символы переносят тексты, сюжетные схемы и другие семиотические образования из одного пласта культуры в другой. Пронизывающие диахронию культуры константные наборы символов в значительной мере берут на себя функцию механизмов единства: осуществляя память культуры о себе, они не дают ей распасться на изолированные хронологические пласты» [8, c. 192].
Таким важным смыслообразующим элементом региональной культуры, содержащим в себе коллективный опыт предшествующих поколений, на наш взгляд, является бездежский фартушек . Данный элемент региональной одежды относится к числу основных предметно-символьных атрибутов участниц обряда-хоровода и может рассматриваться в качестве предметного кода.
Национальный костюм всегда символичен. Так, известный российский искусствовед Р.М. Кирсанова в своей работе «История костюма в России как научная дисциплина» отмечает, что «костюм вездесущ, и по своим свойствам и функциям в культуре он может быть объектом самостоятельного исследования, рассматриваться как универсальная культурная метафора, служить инструментом анализа» [3, c. 64].
В ходе полевого исследования установлено, что в XVII-XIX веках у каждой бездежанки было не менее 10-12 фартушков – по количеству больших церковных праздников. Ослепительно белые с яркими глянцевыми узорами, вытканные по сложной технологии фартушки в тот период можно было увидеть практически в каждом доме деревни. В мифологии славянских народов особо значимым является образ богини – женщины, которая производит какое-то действия с нитками и полотном. С помощью нити и полотна наши предки создавали символы, кодирующие жизнь человека, а сотканные из полотна вещи служили для них оберегом.
Собравшись «всем миром», бездежанки ткали обрядовое полотно, в создании которого все имело свое значение: и материал, и цвет, и место расположения вышивки на одежде. Предпочтение отдавали мастерицы льняным тканям. Летом они расстилали лен на лугу, периодически поливали и переворачивали, чтобы с помощью солнца и воды полотно приобретало нужную белизну. В зимнее время полотно отбеливали в березовой золе с кипятком в специальной бочке (по-местному – «жлукто» ). В бочки закладывалось полотно, а сверху ткань, на которую просеивалась березовая зола. Все заливалось горячей водой. Чтобы температура дольше держалась, наверх клали раскаленный в печке камень и оставляли на ночь. Утром через отверстие внизу хозяйки сливали воду и шли полоскать ткань на реку.
Для вышивок нитки красили луковой шелухой и корой дуба, получая красный цвет, а сажей – черный. Бездежское полотно отличалось не только особой белизной, но и тонкостью, критерием тонкости нити служило женское обручальное кольцо, через которое должно было проходить около 300 ниточек.
Орнаментальная стилистика каждой культуры имеет свой, присущий только ей, «почерк эпохи» и отражает стиль времени в созданных в этот период предметах быта и одежды. Каждый элемент в орнаменте помимо декоративной функции выполняет также и гносеологическую, позволяя через призму данного вида прикладного искусства узнать больше о картине мира народа, особенностях его быта, традициях. Будучи одним из богатейших наследий материальной культуры, орнамент также раскрывает и зафиксированные в фольклоре этические взгляды народа, его философию и религию.
Известный поэт и богослов П.А. Флоренский считал, что «орнамент философичнее других ветвей искусства, ибо он изображает не отдельные вещи, и не частные их соотношения, а облекает наглядностью некие мировые формулы бытия» [15, c. 158].
В.И. Коваль в своей монографии «Язычество в языке и тексте», указывая на необходимость «текстового восприятия» народного орнамента, приводит как довод высказывание известного искусствоведа В.В. Стасова о том, что «у народов древнего мира орнамент никогда не заключал в себе ни одной праздной линии: каждая черточка имеет значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений. Ряды орнаментистики – это связная речь, последовательная мелодия» [4, c. 105].
Мы полагаем, что региональный орнамент целесообразно рассматривать как «культурный креоли-зованный текст», который обладает специфическими способами кодирования, хранения и трансляции региональных социокультурных ценностей и смыслов.
Региональная вышивка на Бездежском фартушке, являясь прекрасным произведением материальной культуры, отражает специфические способы кодирования, хранения и трансляции региональных социокультурных ценностей и смыслов. В данном случае орнамент служит носителем определенной системы знаков и становится посредником между человеком и окружающим миром, выполняя функцию отбора и структурирования информации о внешнем мире.
Согласно семиотическому методу познания, позволяющему классифицировать традиционные орнаменты по знаку, или символу как основному элементу орнамента, считаем целесообразным выделить 4 типа орнаментальной композиции жительниц деревни Бездеж – растительные, зооморфные, космогонические и геометрические символы. Рассмотрим каждый из выделенных типов более подробно.
Следует отметить, что символика цвета в орнаменте жителей Бездежа играет защитную роль. В цветовой палитре узоров регионального этноса отмечаются базовые цвета – цвета земли, неба и солнца. Соответственно, и для цветовой гаммы фартушков наиболее характерно наличие жёлтого, красного, коричневого, синего и зелёного цветов. Цвета неба и воды (синий и голубой) подчеркивают духовный аспект жизни на небе и земле, отражение земного начала происходит у бездежанок через коричневый и зелёный цвет. Красная нитка выступает невербальной доминантой почти на всех бездежанских изделиях, потому что раньше считалось, что красное отгоняет нечистую силу.
Базовыми символами на фартушках являются виноградные гроздья, васильки, незабудки, герань, колоски пшеницы, розы, желуди дуба – цветочный и растительный мотивы. Василек на орнаменте фар-тушка, символизируя покой, верность, указывает на постоянную связь с небом. Узоры с розами складываются как растительные орнаменты и означают солнечное движение с вечным возрождением. Тот факт, что высушенные лепестки герани в полотняном мешочке для древних славян служили оберегом и символом благосостояния, любви и долголетия обусловливает появление цветков герани и на бездеж-ских фартушках.
Зерно и виноград – эмблема христианской евхаристии: колосья пшеницы – это хлеб евхаристии, тело Христово, благодать, праведное, Божье. Мотив винограда раскрывает радость и красоту сотворения семьи.
Большое место в вышивках бездежанок отведено и листьям дуба. Древние славяне почитали дуб как священное дерево, связывали его с языческим богом Перуном, считали, что дуб олицетворяет жизненную силу, мощь, защиту и здоровье. Вышивка с орнаментом в виде дубовых листьев и желудей на без-дежских фартушках символизирует процветание, молодость, силу и удачу, пожелание долголетия. Мотивы цветов, растительных гирлянд вписывались в традиционные символические представления о «женском» природном пространстве. Творя на полотне цветы, побеги с листьями, бездежанки вкладывали в узоры не только свое мастерство. На символическом уровне они творили свою судьбу, благосостояние и счастливую жизнь в браке.
Для декоративного оформления обрядового фартушка кроме цветового компонента было характерно сочетание различных материалов и фактур (кружева, вязаные элементы и др.), которые, в наиболее удачных вариантах, приводили к созданию удивительно целостного художественного образа. В некоторых сюжетах бездежских орнаментов, наряду со знаками, имеющими абстрактные формы ромба, прямоугольника, розетки, встречаются изображения птиц (голубь и снегирь) и зверей (заяц).
Хотя сам обряд-хоровод в настоящее время сохранился лишь на небольшой территории Полесья, но свидетельства о его бытовании в прошлом относятся и к другим местам Полесья, а весьма широкое распространение песни «Стрела» на территории всей Украины, в Брянской и Смоленской областях России позволяет предположить, что «вождение стрелы» и пограничный обряд «проводов весны» были известны всем восточнославянским племенам, населявшим Поднепровье (Днепр и весь бассейн его притоков - Припяти, Сожа, Десны и др.).
Заключение
В современной этнолингвистике, лингвокультурологии, фольклористике все большую популярность приобретает представление о духовной культуре народа как о системе локальных традиций. Чтобы выстроить эту систему, выявить общие закономерности формирования явлений духовной культуры, необходимо четко представлять ареалы бытования этих явлений. В этой связи важное значение имеют исследования региональных культурных традиций.
Бездежский вариант обряда-хоровода «Стрилка» (в этнолингвистическом и семиотическом планах) принадлежит в основном к полесскому типу, но выделяются в нем и восточнославянские черты. Для выражения блоков хороводной обрядности «Стрилки» используются различные коды: языковой (вербальный), локативный, акциональный, персонажный и предметный (невербальный). Включение этих кодов в хоровод-обряд основано на общей семантике, наличествующей у обряда как весеннего праздника. Терминологическая лексическая группа представляет собой систему, отражающую структуру самой обрядности. Для этой системы характерно наличие лексических единиц, вербализующих обрядовые компоненты («Названия обрядовых действий», «Названия обрядовых реалий», «Названия обрядовых персонажей»).
Стремление общества к самопознанию обусловливает его повышенное внимание к изучению традиционной культуры, в частности, празднично-обрядовой сферы, а также необходимость сохранения форм культуры, прошедших многовековой путь. Проведенное исследование вносит вклад в развитие регионалистики, предполагающей учет и изучение традиционных обрядовых текстов, бережное отношение к этнокультурному наследию.
96 с.
447 с.
Список литературы Структура, семантика и лексика обряда-хоровода "стрилка"
- Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 2000. 450 с.
- Гудков Д.Б. Язык, сознание, коммуникация: сб. статей. М.: МАКС Пресс, 2017. 340 с.
- Кирсанова Р.И. История костюма в России как научная дисциплина // Теория моды. 2006. № 1. С. 53–68.
- Коваль В.И. Язычество в языке и тексте. Гомель: ГТУ им. Ф. Скорины, 2021. 285 с.
- Ковшова М.Л. Семантика головного убора в культуре и языке: костюмный код культуры. М.: Гнозис, 2015. 368 с.
- Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М.: ИТДГК, 2003. 375 с.
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.
- Лотман М.Ю. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. 472 с.
- Маслова В.А. Концептуальные основы современной лингвистики. М.: ФЛИНТА, 2019. 332 с.
- Маслова В.А., Пименова М.В. Коды лингвокультуры. М.: ФЛИНТА, 2016. 180 с.
- Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура. М.: Академия, 2004. 432 с.
- Толстой Н.И., Толстая С.М. Славянская этнолингвистика: вопросы теории. М.: Институт славяноведения РАН, 2013. 240 c.
- Толстая С.М. Образ мира в тексте и ритуале. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. 528 с.
- Федоров М.А. Основные понятия лингвокультурологии. Улан-Удэ: Из-во Бурятского госуниверситета, 2015. 96 с.
- Флоренский П.А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М.: Мысль, 2000. 447 с.