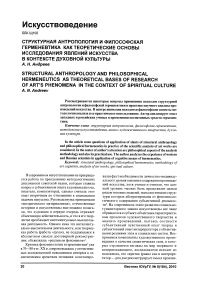Структурная антропология и философская герменевтика как теоретические основы исследования явлений искусства в контексте духовной культуры
Бесплатный доступ
Рассматриваются некоторые вопросы применения подходов структурной антропологии и философской герменевтики в практике научного анализа произведений искусства. В центре внимания находятся философские аспекты методологии анализа и ее практическое использование. Автор анализирует опыт западных и российских ученых в применении когнитивных средств герменевтики.
Структурная антропология, философская герменевтика, методология искусствоведения, анализ художественного творчества, духовная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/147150676
IDR: 147150676
Текст научной статьи Структурная антропология и философская герменевтика как теоретические основы исследования явлений искусства в контексте духовной культуры
В современном искусствознании не прекращается работа по преодолению методологических диссонансов советской науки, которая ставила вопрос о субъективном опыте художника (поэта, писателя, композитора), однако считала этот опыт вторичным по отношению к социальным задачам искусства. Руководствуясь принципами «исторического материализма», отечественные историки и искусствоведы еще недавно полагали, что художник в первую очередь отражает объективную действительность, и что в его творчестве преобладает интеллектуально-мыслительная деятельность. Однако сама эта интеллектуально-мыслительная деятельность, или творческая работа (работа «духа»), не поддающаяся в абсолютном смысле достоверной реконструкции, объявлялась «реальным феноменом»1.
Критика феноменологии и герменевтики2 уже в 70—80-е гг. XX в. сопровождалась у отечественных исследователей повышением интереса к семиотическим средствам познания: констатиро вался факт необходимости личностно-индивидуального уровня освоения содержания произведений искусства, хотя ученые и считали, что данный уровень «может быть представлен целым рядом типовых моделей, психологические структуры которых абстрагированы от феноменологического содержания субъективной реальности3. На современном этапе развития социальногуманитарного знания искусствоведы все чаще обращаются к субъект-объектным характеристикам процессов художественного творчества и анализа произведений, пытаясь соотнести субъективный чувственный опыт творца и субъективный опыт интерпретатора с объективными реалиями эпох и социальных систем. Воспринимая компоненты художественного произведения в качестве семантических схем, в которых отражаются взгляды на мир творящего и воспринимающего, исследователи исходят из положения, что «критик (равно как и интерпретатор — ред.) не реконструирует смысл произве-
-
А. Н. Андреев
дения, а следует его естественной и имманентной логике»4. В этом случае важнейшей задачей для ученого является понимание символических основ произведения через структуру языка, нарратива или художественного образа, которые детерминированы данной логикой.
Искусство и художественное мышление выступают как воплощение экзистенциального опыта творящего человека, как набор смысловых интенций, ценный сам по себе, вне сюжета произведения и его логического смысла. Такой подход к изучению искусства получил последовательное развитие в структурной антропологии, попытавшейся найти способы преодоления антитезы чувственного и понятийного, интуитивного и дискурсивного путем перехода на уровень знаков5. Структурализм приблизился к признанию факта бессознательного характера большинства явлений культуры и искусства, проведя аналогию между искусством и языком, структура которого была неизвестна говорящим людям до создания научной грамматики6. Это признание породило трудности понимания искусства и тем более его научного анализа, почему многие специалисты стали прибегать к феноменологическим средствам познавательной деятельности, находя параллели между деятельностью ученого и эстетическими компонентами духовности и творческой интуицией, или даже отождествляя их7.
С позиций Вильгельма Дильтея, одного из основоположников философской герменевтики, постижение ученым смысловых интенций художественного произведения возможно путем достижения между исследователем произведения и его создателем атмосферы конгениальности. Расшифровывая категорию «понимание», Дильтей вел речь о психологическом «вживании» в доступные знаково-символические выражения «чужого бытия»8. В свою очередь, определяя гносеологическую специфику «наук о духе», Дильтей считал, что такие науки основаны на интуиции, а не на причинно-следственных связях9, и что именно «из переживания вырастают исторические категории ценности и цели»10. Тем не менее, современные последователи философской герменевтики, и тем более представители структурной антропологии, в своих познавательных задачах отказались от гносеологических представлений Дильтея и заменили их методологией рационального поиска структур в языке, литературе и искусстве, способных поставить исследователя и создателя произведения на один историко-культурный, или экзистенциальный уровень. Во многом отправной точкой для этого послужила теория лингвистического анализа Людвига Витгенштейна, полагавшего, что «определенное соотношение элементов в картине — представление о том, что так соотносятся друг с другом вещи», что данная связь элементов картины «будет являться ее структурой, а возможность такой структуры — формой изображения, присущей данной картине»11.
Метод интерпретации языковых форм, применимый также к анализу средств выражения и форм художественного языка в искусстве, был обстоятельно разработан французским мыслителем Полем Рикером (Paul Ricoeur, 1913—2005). Решая главную проблему онтологии понимания, состоящую в преодолении дистанции между реципиентом-интерпретатором текста (или произведения) и самим интерпретируемым текстом, Рикёр пришел к необходимости обоснования метода структурного объяснения его (т. е. текстового) «герменевтического поля». Категория «герменевтическое поле» при этом трактуется как круг выражений с двойным или мульти-аспектным смыслом, как набор символов, каждый из которых представляет собой «всякую структуру значения, где один смысл — прямой, первичный, буквальный, означает одновременно и другой смысл, косвенный, вторичный, иносказательный, который может быть понят лишь через первый12. Метод Рикёра самим автором описан следующим образом: «Интерпретация передаваемого смысла состоит в (1) осознании (2) символической основы, определяемой (3) истолкователем, находящимся в том же самом семантическом поле, что и то, что он понимает, и, стало быть, он входит в герменевтический круг»13.
При анализе художественных произведений в контексте духовного развития общества интерпретационные задачи расшифровки их смысла, стоящего за очевидным, или буквальным смыслом, приобретают еще более актуальное значение, чем при простом эстетическом или даже логическом их восприятии. Выявление параметров духовной жизни социума и знание специфики развития структурных элементов его духовной культуры, безусловно, являются средствами включения исследователя (интерпретатора) в «герменевтическое поле» исследуемого объекта.
Данные методологические установки многие годы с успехом применяются в практике исторического и искусствоведческого анализа явлений западно-европейского и отечественного искусства, что позволяет соотнести их с задачами исследования искусства регионального. В частности, апробация методов структурной антропологии в изучении западноевропейского искусства эпохи Возрождения и Нового времени была осуществлена крупнейшим американским историком и теоретиком изобразительного искусства Майклом Баксендоллом (Michael Baxandall, Бак-сандалл, 1933—2008). Изучая творчество великих мастеров Ренессанса в контексте их культурноисторического опыта, Баксендолл отталкивался от представлений об аналогии между языком как набором лингвистических конструкций и искусством как «воплощенной деятельностью духа, которая представляет собой непрестанно совершающийся процесс порождения смысла»14. Свой метод анализа художественных произведений Баксендолл назвал «инференциальной (или толковательной) критикой», предполагающей причинный (инференциальный) подход, исходящий из некоторых предположений-инференций по поводу интенций картины. Под интенцией Баксендолл понимал «взгляд на вещи, как бы направленный вперед, старающийся учесть их будущее состояние», и включал в понятие интенции рациональные установки и модусы поведения как создателя картины, так и воспринимающего ее человека15. Интенция может трактоваться в данном случае также как «умонастроение», «mental habits» — понятие, введенное иконологами (в частности^. Панофским)16. Баксендолл предложил постигать образный смысл произведений через «когнитивный стиль» той эпохи, в которую они созданы, — стиль, воспринимаемый как «взаимообусловленность различных форм опыта»17. Для этого, по его мнению, необходимо изучать социальные аспекты истории искусства. «Генеративный, или порождающий, структурализм» Баксендолла (по словам Пьера Бурдье), таким образом, не исключает, а дополняет и расширяет представления о детерминации искусства социально-экономическими связями18, что позволяет использовать теоретические разработки американского ученого в сочетании с традиционными методами отечественного искусствоведения и истории искусства.
Изучение явлений искусства с позиций структурализма и семиотики в нашей стране опираются не только на исследования крупнейших западных мыслителей, но и на оригинальный искусствоведческий и философский опыт отечественных философов первой половины XX в., вдохновленных феноменологией Э. Гуссерля, — Г. Г. Шпета, А. С. Ахманова, Н. Жинкина и др. Еще в 1920-е гг. А. С. Ахманов ввел категорию эстетической интуиции как «созерцания качества реализации идеи или качества внутреннего строения вещи»19. Полагая, что познание художественного произведения состоит не только в определении его идеального содержания, но и в постижении качества и формы реализации идеи, ученый считал необходимым увидеть «саму внутреннюю динамику определения идеей чувственных дат вещи, как бы внутреннее движение в выражении идеи в реальных моментах вещи»20. Н. Жинкин, входивший, как и А. С. Ахманов, в научный круг Г. Г. Шпета, призывал отказаться от поисков эстетического феномена только в самом предмете, находя сущность эстетического в переживании: «Эстетичес кое не есть предикат предмета, а предикат созерцающего “я”», — утверждал мыслитель21. Искусство понималось им как явление, имеющее характер речи, а потому обладающее сходной содержательной структурой22.
Тем не менее, практическое использование герменевтических и структуралистских методов познания при изучении художественного творчества в отечественной науке по понятным причинам началось позже, чем в западной (примерно с конца 1980-х гг.). В результате применения данных методов сразу же появились яркие и оригинальные исследования. Структуралистский подход, например, использовался при изучении поэтического наследия Симеона Полоцкого в его сравнении с структурой художественного творчества Иеронима Босха (речь идет о применении барочных литературных аллегорий Полоцким в стихотворении «Времени премена и разность» и аллегоричности художественного мышления Босха в знаменитом «Возе сена»)23. Подобные исследования, касавшиеся не только литературного творчества, но и живописи, музыки24, позволяют включить методы структурной антропологии и философской герменевтики в арсенал средств по изучению самого широкого круга явлений духовной жизни. Их применение значительно расширяет возможности содержательного анализа художественных ценностей как системы аксиологических принципов, обусловленных духовно-нравственными параметрами социума.
Список литературы Структурная антропология и философская герменевтика как теоретические основы исследования явлений искусства в контексте духовной культуры
- Лилов А. А. О природе художественного мышления//Актуальные вопросы методологии современного искусствознания. М.: Наука, 1983. С. 106, 115.
- Дубровский Д. И., Черносвитов Е. В. К анализу структуры субъективной реальности//Вопросы философии. 1979. № 3. С. 57-69.
- Беляев Г. А. К вопросу об использовании средств семиотики в познании искусства//Актуальные вопросы методологии современного искусствознания. М.: Наука, 1983. С. 364-365.
- Лиманская Л. Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта. Исследования по теории и методологии искусствознания М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2004. С. 17.
- Там же. С. 18.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология/пер. с фр. В. В. Иванова. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 28.
- Антипов Г. А. Историческое прошлое и пути его познания. Новосибирск: Наука, 1987. С. 92.
- Губман Б. Л. Смысл истории. Очерки современных западных концепций. М.: Наука, 1991. -С. 43.
- Шмаков В. С. Структура исторического знания и картина мира. Новосибирск: Наука, 1990. С. 71.
- Губман Б. Л. Смысл истории. Очерки современных западных концепций. М.: Наука, 1991. С. 44.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат//Л. Витгенштейн Философские работы/пер. с нем. М. С. Козловой. М.: Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 8.
- Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике/пер. с фр. И. Сергеевой. М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. С. 18.
- Там же. С. 84.
- Лиманская Л. Ю. Указ. соч. С. 167.
- Баксендолл, М. Узоры интенции; об историческом истолковании картин/пер. с англ. М. Н. Соколова. М.: ЮниПринт, 2003. С. 52-53.
- Лиманская Л. Ю. Указ. соч. С. 169.
- Там же. С. 168.
- Там же. С. 196-201.
- Ахманов А. Интеллектуальная интуиция и эстетическое восприятие//Антология феноменологической мысли в России. М.: Логос; Прогресс-Традиция, 2000. Т. 2. С. 91.
- Там же. С. 89.
- Жинкин Н. Проблема эстетических форм//Антология феноменологической мысли в России. М.: Логос; Прогресс-Традиция, 2000. Т. 2. С. 204.
- Там же. С. 210-215.
- Звонарева Л. У. Изобразительная символика в книгах Франциска Скорины и Симеона Полоцкого//Герменевтика древнерусской литературы. М.: АН СССР; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького, 1989. Сб. 2. С. 121-122.
- Герменевтика древнерусской литературы.-М.: АН СССР; Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького, 1989. Сб. 2. 482 с.