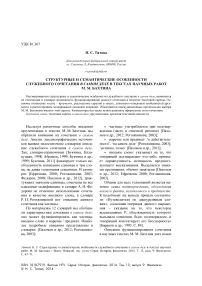Структурные и семантические особенности служебного сочетания в самом деле в текстах научных работ М. М. Бахтина
Автор: Титова Н.С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются структурные и семантические особенности служебного сочетания в самом деле, выявляется не отмеченная в словарях возможность функционирования данного сочетания в качестве текстовой скрепы. Основное отношение «тезис -аргумент», реализуемое скрепой в тексте, дополнено описанием особенностей аргумента и рассмотрением модификации основной операции. Объясняются коммуникативные предпосылки выбора М. М. Бахтиным именно этой скрепы. Комментируется также пунктуационное оформление этого сочетания.
Текстовая скрепа, в самом деле, аргументация, средства текстовой связности
Короткий адрес: https://sciup.org/147219207
IDR: 147219207 | УДК: 81.367
Текст научной статьи Структурные и семантические особенности служебного сочетания в самом деле в текстах научных работ М. М. Бахтина
По материалам 12 словарей мы обобщили характеристики сочетания в самом деле : оно может функционировать как частица, вводное слово и наречие / предикат. Наиболее подробные описания представлены в словарях: [Пахомов и др., 2012; Рогожнико-ва, 2003]:
-
• частица: употребляется при подтверждении (часто в ответной реплике) [Пахомов и др., 2012; Рогожникова, 2003];
-
• наречие или предикат: ‘в действительности’, ‘на самом деле’ [Рогожникова, 2003]; ‘истинно, точно’ [Пахомов и др., 2012];
-
• вводное слово: указывает на то, что говорящий подтверждает что-либо, признает справедливость, истинность предшествующего высказывания. Выделяется знаками препинания, обычно запятыми [Пахомов и др., 2012; Ефремова, 2000; Рогожникова, 2003].
Общим для всех толкований является наличие семы подтверждения , обоснования некоего факта , изложенного в предтексте . К подобному же выводу пришли составители «Путеводителя по дискурсивным словам»: «основная операция данного выражения – указание на то, что некоторое высказывание Р, обоснованность которого вызывала сомнения, было подтверждено, и говорящий констатирует его бесспорность» [Баранов и др., 1993. С. 84].
Описание функционирования сочетания в научных текстах М. М. Бахтина дает новое
Титова Н. С. Структурные и семантические особенности служебного сочетания в самом деле в текстах научных работ М. М. Бахтина // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 9: Филология. С. 67–71.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 9: Филология © Н. С. Титова, 2014
представление о семантике и функциональных возможностях сочетания в самом деле . Рассмотрим следующий пример:
Всякая пародия , всякая травестия , всякое слово , употребленное оговорочно , с иронией , заключенное в интонационные кавычки , вообще всякое непрямое слово есть намеренный гибрид , но гибрид одноязычный , стилистического порядка. В самом деле , в пародийном слове сходятся и известным образом скрещиваются два стиля , два « языка » [Бахтин, 1975. С. 438–439].
Значение сочетания в самом деле здесь ближе всего к описанию, данному в «Путеводителе по дискурсивным словам», модификация 3 «Аргументы и факты»: [Р в самом деле, Q] вводит высказывание Q, из которого следует, что высказывание Р, вызывавшее сомнения, было подтверждено и представляется говорящему бесспорным [Баранов и др., 1993. С. 86]. Интонационное выделение и инициальное положение сочетания позволяют предположить, что перед нами текстовая скрепа. По определению А. Ф. Прияткиной, текстовая скрепа (в частности, скрепа-фраза) соединяет части текста, находящиеся в определенных смысловых отношениях. При этом скрепа характеризуется определенной лексико-фонетической цельностью, разнообразием структурных вариаций и наличием интонационного признака отдельного высказывания [2007. С. 327].
В приведенных примерах сочетание соединяет части текста, находящиеся в определенных смысловых отношениях: тезис (левый контекст) – аргумент (правый контекст), при этом оно обладает лексикофонетической цельностью и может употребляться как отдельное высказывание, скрепа-фраза. Мы предполагаем, что в данной конструкции скрепа в самом деле является средством введения аргументации. Все найденные нами примеры в научных текстах М . М. Бахтина подтверждают, что в самом деле выполняет функцию текстовой скрепы, а не союза, частицы, наречия или вводного слова. От вводного слова скрепу отличает ее закрепленность в структуре текста – инициальное положение в предложении на границе смысловых блоков, а также участие в создании связи между частями текста (функции, подобной союзной).
Выбор М. М. Бахтиным скрепы с такой семантикой обусловлен, на наш взгляд, как спецификой аргумента, так и психологической установкой автора. Вместо того чтобы логически убедить адресата в справедливости тезиса, автор делает предположение, что мысль проста и очевидна, как для него самого, так и для собеседника. Некоторые аргументы представляют собой упрощенный или же поясненный на примерах тезис. Как правило, идеи М. М. Бахтина представляют собой концентрат обобщенной мысли, понять которую сложно. Чтобы сделать ее доступнее для понимания, он использует пояснение, конструируемое из более конкретных понятий, или же прибегает к иллюстрациям из текста. Сравним:
Только в этой конкретной систематичности своей , то есть в непосредственной отнесенности и ориентированности в единстве культуры , явление перестает быть просто наличным , голым фактом , приобретает значимость , смысл , становится как бы некой монадой , отражающей в себе все и отражаемой во всем.
В самом деле : ни один культурный творческий акт не имеет дела с совершенно индифферентной к ценности , совершенно случайной и неупорядоченной материей , – материя и хаос суть вообще понятия относительные , – но всегда с чем-то уже оцененным и как-то упорядоченным , по отношению к чему он должен ответственно занять теперь свою ценностную позицию [Бахтин, 1975. С. 25].
Здесь сложный тезис «любое культурное явление есть монада» представлен в упрощенной форме «любой творческий акт должен быть рассмотрен в единстве с другими культурными знаками, а не вне системы». Можно сказать, что подобным упрощением автор добивается принятия своей идеи собеседником, т. е. аргументирует свою позицию.
В другом примере пояснение ведется непосредственно через обращение к иллюстрации из текста анализируемого литературного произведения:
-
<...> события эти определяются случаем и также характеризуются случайной одновременностью и случайной разновременностью.
Но эта логика случая подчинена здесь иной, объемлющей ее высшей логике. В самом деле . Служанка колдуньи Фотида случайно взяла не ту коробочку и вместо мази для превращения в птицу дала Люцию мазь для превращения в осла [Там же. С. 267].
Возникает вопрос: может ли пояснение быть аргументом? Аргумент доказывает правомерность тезиса, т. е. на когнитивном уровне меняет картину мира собеседника, изменяя его отношение к некоей информации с отрицания ее истинности на утверждение. Для пояснения же характерно следующее: 1) наличие одного и того же денотата в поясняемом и пояснении; 2) целью пояснения является желание сделать сказанное (написанное) понятным собеседнику. При пояснении новые, неоднозначно оцениваемые понятия интерпретируются через уже сформированные. В результате чего новое представление начинает восприниматься как истинное. Получается, что оба действия - как аргументация, так и пояснение -производят один и тот же эффект на систему представления о мире собеседника. Разницу можно увидеть лишь в том, что при пояснении собеседник получает новую информацию об объекте, тогда как аргументация может работать в рамках уже сформированных в сознании собеседника понятий. Таким образом, в самом деле действительно вводит аргументацию, но особым способом.
Можно отметить два конструктивно различающихся варианта:
1)скрепа соединяет фразы внутри абзаца:
Но вернемся к Рабле. Гетевское описание карнавала до известной степени может послужить и описанием раблезианского мира , раблезианской системы образов. В самом деле : специфическая праздничность без благоговения , совершенное освобождение от серьезности , атмосфера равенства , вольности и фамильярности , миросозерцательный характер непристойностей , шутовские увенчания-развенчания , веселые карнавальные войны и побоища , пародийные диспуты , связь поножовщины с родовым актом , утверждающие проклятия , - разве всех этих моментов гетевского карнавала мы не находим в романе Рабле? [Бахтин, 1990. C. 280].
Здесь аргумент выполняет в большей мере иллюстративную функцию, потому его вынесение в самостоятельный абзац нецелесообразно;
-
2) скрепа соединяет абзацы:
Это великолепная описательная характеристика романной композиции Достоевского , но выводы из нее не сделаны , а те , какие сделаны , - неправильны.
В самом деле , едва ли вихревое движение событий , как бы оно ни было мощно , и единство философского замысла , как бы он ни был глубок , достаточны для разрешения той сложнейшей и противоречивейшей композиционной задачи , которую так остро и наглядно сформулировал Гроссман [Бахтин, 2002. C. 9].
В данном случае автор заявляет достаточно обобщенный тезис, аргументация которого занимает весь следующий абзац, цельность его содержания обосновывает подобное конструктивное выделение.
Однако ощущение, что примеры неоднородны и по семантике, остается. Мы обратили внимание на три ситуации, когда автор использует именно скрепу в самом деле для аргументации своей мысли:
-
1) высказанный автором тезис слишком обобщен и сложен для понимания, поэтому автор считает необходимым прибегнуть к его интерпретации в более простых понятиях, например:
В своем стремлении строить научное суждение об искусстве независимо от общей философской эстетики искусствоведение находит материал , как наиболее устойчивую базу для научного обсуждения: ведь ориентация на материал создает соблазнительную близость к положительной эмпирической науке. В самом деле : пространство , массу , цвет , звук - все это искусствовед ( и художник ) получает от соответствующих отделов математического естествознания , слово он получает от лингвистики [Бахтин, 1975. С. 11];
-
2) автор дает контраргумент к позиции оппонента, указывая на очевидные факты, не учтенные, упущенные им:
<...> то обнаружится существенное сходство и родство всех трех приведенных примеров , установленные же Шнеегансом различия окажутся надуманными и случайными.
В самом деле , в чем же объективное содержание первого примера? Сам Шнееганс описывает его так , что не остается никаких сомнений: заика разыгрывает родовой акт. Он беременен словом и никак не может разродиться. Сам Шнееганс говорит : «Кажется , что дело доходит до родовых схваток и спазм » [Бахтин, 1990. С. 342-343];
-
3) автор поясняет, обосновывает данную им характеристику какого-то конкретного понятия через указание на его неотъемлемые черты, качества:
Но основное карнавальное ядро этой культуры вовсе не является чисто художественной театрально-зрелищной формой и вообще не входит в область искусства. Оно находится на границах искусства и самой жизни. В сущности , это – сама жизнь , но оформленная особым игровым образом.
В самом деле , карнавал не знает разделения на исполнителей и зрителей. Он не знает рампы даже в зачаточной ее форме. Рампа разрушила бы карнавал ( как и обратно : уничтожение рампы разрушило бы театральное зрелище ) . Карнавал не созерцают , – в нем живут , и живут все , потому что по идее своей он всенароден [Там же. С. 11–12].
Первый абзац завершается тезисом: карнавал – это не театр, но жизнь, оформленная в игровой форме . Во втором абзаце раскрываются его признаки: отсутствие рампы, участие зрителей, всенародность.
Интересно разнообразное пунктуационное оформление данной единицы. Скрепа может быть отделена запятой, подобно вводному слову, но после нее автор может поставить и двоеточие, характерное для бессоюзного сложного предложения с пояснительными отношениями, и точку, выделяя ее в самостоятельное высказывание. А. Ф. При-яткина, комментируя пунктуационное выделение скреп-фраз, пишет: «...если запятая и точка отвечают общей пунктуационной традиции, то двоеточие в этих условиях отражает намерение говорящего отразить на письме специфическую функцию речевой единицы. Двоеточие можно прямо считать знаком скрепы-фразы...» [2007. С. 330]. Пунктуационное оформление сочетания лишь подтверждает, что перед нами скрепа.
Таким образом, сочетание в самом деле, которое функционирует в русском языке в качестве наречия, частицы и вводного слова, имеет еще одну функцию – текстовой скрепы. В конструкции, в которой левый контекст представляет собой тезис, а правый – аргумент, скрепа в самом деле вводит аргументацию особого рода – поясняющего характера. Коммуникативная установка говорящего исходит из того, что собеседник готов принять его позицию без доказательств, потому что она так же очевидна, как и для него самого. Интерпретация же своей позиции в других (понятных собеседнику) терминах позволяет снизить терминологическую нагрузку высказывания и до- биться его полного принятия. Материал позволяет выделить два конструктивных типа: 1) скрепа соединяет фразы внутри абзаца; 2) скрепа соединяет абзацы. Кроме того, мы обратили внимание на три типа ситуаций, в которых используется скрепа: 1) опровержение мнения оппонента; 2) интерпретация сложного тезиса; 3) обращение к глубинным характеристикам объекта (термина) для экспликации очевидности его квалификации в высказанном тезисе. Разнообразное пунктуационное оформление данного сочетания подтверждает его статус скрепы и подчеркивает его семантические особенности.
Список литературы Структурные и семантические особенности служебного сочетания в самом деле в текстах научных работ М. М. Бахтина
- Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. 7-е изд., стереотип. М.: Русские словари, 1999.
- Баранов А. Н., Плунгян В. А., Рахилина Е. В., Кодзасов С. В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка / Под ред. А. Н. Баранова. М.: Помовский и партнеры, 1993. 207 с.
- Букчина Б. З. Слитно? Раздельно? Через дефис? Словарь русского языка. М.: АСТПресс, 2011. 432 с.
- Букчина Б. З., Еськова Н. А. и др. Русский орфографический словарь: ок. 160 000 слов / Под ред. В. В. Лопатина. М.: Азбуковник, 1999. 1280 с.
- Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. М.: Русский язык, 1998. 938 с.
- Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000. 2354 с.
- Пахомов В. М., Свинцов В. В., Филатова И. В. Трудные случаи русской пунктуации: словарь-справочник. М.: Эксмо, 2012. 576 с.
- Прияткина А. Ф. Скрепа-фраза (о новой модели организации текста) // А. Ф. Прияткина. Избранные работы. Владивосток, 2007. С. 326-334.
- Рогожникова Р. П. Толковый словарь сочетаний, эквивалентных слову: ок. 1 500 устойчивых сочетаний рус. яз. М.: Астрель, 2003. 415 с.
- Федоров А. И. Фразеологический словарь русского литературного языка. 3-е изд., испр. М.: Астрель: АСТ, 2008. 878 с.
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М., 1990. 543 с.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 504 с.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 2002. 167 с.