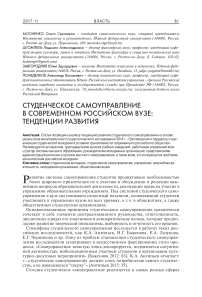Студенческое самоуправление в современном российском вузе: тенденции развития
Автор: Мосиенко Ольга Сергеевна, Штомпель Людмила Александровна, Завгородняя Юлия Эдуардовна, Понеделков Александр Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Молодежь России - XXI век
Статья в выпуске: 11, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу тенденций развития студенческого самоуправления на основе результатов мониторингового социологического исследования 2016 г. «Противоречия и парадоксы социализации студенческой молодежи в условиях транзитивности современного российского общества». Рекомендуется аспирантам, преподавателям высших учебных заведений, работникам управления всех структур системы высшего образования, руководителям молодежных организаций, представителям администраций регионов и органов местного самоуправления, а также всем, кто интересуется проблемами воспитания российской молодежи.
Студенческая молодежь, студенческое самоуправление, управление, внеучебная деятельность, молодежная организация, общественная акция
Короткий адрес: https://sciup.org/170168652
IDR: 170168652
Текст научной статьи Студенческое самоуправление в современном российском вузе: тенденции развития
Р азвитие системы самоуправления студентов продиктовано необходимостью более широкого привлечения их к участию в обсуждении и решении важнейших вопросов образовательной деятельности, реализации права на участие в управлении образовательным учреждением. Под системой студенческого самоуправления в вузе мы понимаем целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении вузом на всех уровнях, в т.ч. в общежитиях, а также общественных студенческих организациях.
Основополагающие принципы студенческого самоуправления органически сочетают в себе элементы централизованного руководства, ответственность, дисциплину в рядах его участников и демократические начала, которые предполагают развитие творческой инициативы, выборность и отчетность его органов.
Специфика студенческого самоуправления исследуется в работах таких российских исследователей, как К.А. Антипьев, Н.Г. Баженова, Е.А. Лазукова, Е.Г. Черникова и др. Одну из проблем становления студенческого самоуправления исследователи усматривают в искусственном форсировании этого процесса: «Самоуправление зачастую лишь декларируется, подменяется ситуативной активностью, мобилизационным участием студентов в организации культурно-досуговых мероприятий» [Баженова 2012: 83]. К.А. Антипьев отмечает: «...студенческое самоуправление должно стать потребностью самого студенчества, а не навязываться “сверху”» [Антипьев 2015: 35].
Сегодня студенческое самоуправление реализуется в самых разных сферах жизнедеятельности образовательных учреждений и объективно приобретает все более важное значение в жизни студентов. Однако внутренняя мотивированность участия студентов в студенческом самоуправлении для некоторой их части все еще недостаточно сильна.
В связи с этим одной из задач проведенного в 2016 г. мониторингового межрегионального исследования «Противоречия и парадоксы социализации студенческой молодежи в условиях транзитивности современного российского общества»1 стало выявление особенностей и тенденций развития вузовской системы студенческого самоуправления.
Внеучебная деятельность студентов является неотъемлемой составляющей процесса образования в высших учебных заведениях. Она выступает одним из основных факторов социализации студентов. В нашем исследовании респондентам был предложен ряд вопросов об уровне внеучебной работы в университете, об их участии в студенческом самоуправлении. Распределение ответов студентов в 2016 г. на вопрос: «Как вы оцениваете уровень внеучебной, внеаудиторной работы со студентами на факультете и в университете?» – показало, что около 38% студентов отмечают средний и высокий уровень внеучебной работы. Перекрестные распределения ответов выявили, что высокий уровень внеаудиторной работы в университете отметили 57,7% студентов, которые знают о студенческом самоуправлении и участвуют в его работе. Как низкий оценили уровень внеучебной работы со студентами прежде всего те, кто ничего не знает о студенческом самоуправлении (19,4%).
Примечательно, что значительное число респондентов затруднились дать однозначную оценку внеаудиторным занятиям как в университете (12,7%), так и на факультете (11,2%). Можно предположить, что основной причиной затруднения в оценках является недостаточная информированность и неучастие студентов во внеучебных мероприятиях. Особенно отчетливо это становится заметным по оценкам внеаудиторных занятий, проводимых в общежитии: большинство студентов (48,3%) так и не смогли дать оценку внеучебной работе в общежитии, видимо, ввиду полной неосведомленности о проводимых мероприятиях. В своем большинстве и девушки, и юноши не осведомлены о внеаудиторной работе, проводимой в общежитиях. Следует заметить, что девушки заметно меньше информированы о внеучебной деятельности в общежитии: 49,9% студенток затруднились дать однозначную оценку, среди юношей не смогли ответить 45,1%. Тем не менее студенты и студентки, осведомленные о внеучебной деятельности в общежитии, оценили ее довольно невысоко: 15,8% юношей и 14% девушек оценили уровень внеаудиторных занятий в общежитии как низкий; средним его назвали 19,2% юношей и 19,5% девушек. Довольны проводимыми в общежитии внеучеб-ными мероприятиями 19,9% юношей и 16,6% девушек.
Примечательно, что среди ответов студентов, распределившихся по курсам обучения, в несколько большей степени неудовлетворенность внеучебной работой испытывают студенты старших курсов. Ее уровнем в университете не удовлетворены: 5-й курс – 14,6%, 4-й курс – 12,3%, 3-й курс – 12,2%). На факультете – аналогичная картина: 3-й курс – 14,7%, 4-й курс – 14,6%; в общежитии: 3-й курс – 15,1%, 4-й курс – 15,9%, 5-й курс – 15,6%). В целом по вузам наиболее высоко уровень внеучебной работы оценивают студенты 1-го курса: в университете – 43,3%, на факультете – 42,5%. Полученный результат, вероятнее всего, зависит от доли организационных мероприятий, связанных с адаптацией студентов к корпоративной культуре вуза, которые в большей степени сосредоточены именно на учащихся 1-го курса.
Наиболее высокий уровень внеаудиторной работы в университете был отмечен студентами сельскохозяйственного (57,5%) и медицинского (50,7%) направлений обучения; чаще учащимися Кубанского государственного аграрного университета (71%), Азово-Черноморского инженерного института Донского государственного аграрного университета (54,3%), Ростовского государственного медицинского университета (51,4%), Казанского федерального университета (49,2%). Самую низкую оценку внеучебной работе в университете дали студенты направления «Архитектура и дизайн» (19%) – это учащиеся в первую очередь ЮжноРоссийского института управления – филиала РАНХиГС (20,3%), Южного федерального университета (16,9%), Академии строительства и архитектуры ДГТУ (16,7%), Волгоградского государственного технического университета (16,2%). При этом наиболее остро недостаток внеучебной работы в общежитии ощущают студенты ЮФУ (22,4% отметили ее низкий уровень и 51,8% затруднились ответить), ЮРИУ – филиал РАНХиГС (22,2% и 69,2% соответственно). Причем подавляющее большинство студентов КубГУ (73,1%), Академии строительства и архитектуры ДГТУ (68,8%), РГЭУ (РИНХ) (66%) и вовсе затруднились ответить на поставленный вопрос.
Интересно сравнить оценки внеучебной работы студентов по итогам трех опросов – 2006, 2011 и 2016 гг. Результаты исследования 2006 г. показали, что уровень внеучебной работы в вузе и на факультете около 40% студентов оценили как средний и четверть – как низкий. В 2011 г. отмечается рост уровня удовлетворенности внеучебной работой: так, около 42% студентов охарактеризовали его как средний, тогда как в 2016 г. отмечено некоторое снижение числа студентов (39,8%), оценивших уровень внеучебной работы как средний, но возросло число студентов, отметивших высокий уровень внеаудиторной работы (с 28,0% в 2011 г. до 33,2% в 2016 г.).
Информированность о студенческом самоуправлении и направлениях его деятельности в 2016 г. выглядит следующим образом. Всего 14,6% общего числа опрошенных студентов хорошо информированы о студенческом самоуправлении и участвуют в нем, причем больше всего активных участников формирования и развития процесса студенческого самоуправления среди студентов Казанского федерального университета – 43,3% и Донского государственного аграрного университета – 31,2%. Подавляющее число студентов (42,2%) знают о студенческом самоуправлении, но не участвуют в деятельности его представительств. Число опрошенных, которые кое-что слышали о студенческом самоуправлении, составляет 29,3%, а 13,9% студентов ничего не знают о студенческом самоуправлении. Такие показатели являются неудовлетворительными и указывают как на недостаточную просветительскую работу сотрудников вузов, так и на индифферентность самого студенчества, для которого активное участие в самоуправлении не является приоритетным. И это может и должно стать предметом для работы всего педагогического коллектива.
Можно предположить, что низкая активность студентов в общественной жизни университета обусловлена слабой осведомленностью о деятельности подобных объединений. Тем более что студенты готовы принять более активное участие во внеучебной студенческой жизни: так ответили 45,5% респондентов (49,7% девушек и 39,7% юношей). Причем свою готовность выразили 76,2% студентов, хорошо информированных о студенческом самоуправлении и без того участвующих в его деятельности. Можно заметить, что больше всего интерес к участию в деятельности общественных объединений университета проявляют студенты 1-го курса обучения – 57,1%, однако такая готовность сходит на нет в процессе дальнейшего обучения. Так как активность старшекурсников направлена прежде всего на поиск мест трудоустройства или создание семьи, времени на участие во внеучебной студенческой жизни у них становится меньше, чем у студентов первых лет обучения. Вместе с тем примерно четверть студентов по каждому курсу обучения затрудняются ответить на этот вопрос. Сложившаяся картина должна вызывать озабоченность руководителей вузов и структурных подразделений. Приходится говорить о необходимости повышения информированности учащихся о возможности участия в различных студенческих объединениях, организациях, интереса к социально-управленческой жизни университета, а также побуждения к более активному участию в ней.
Свою готовность к участию в студенческой жизни чаще обозначали студенты сельскохозяйственного (58,3%), медицинского (58,3%), психолого-педагогического (55,3%) и социально-гуманитарного (51,2%) направлений обучения, нежели архитектурного (31,4%), экономического (38,9%), естественнонаучного (39,3%) и инженерно-технологического (43,2%). Готовность принимать более активное участие во внеучебной студенческой жизни также отметили студенты, проживающие в общежитии (53,9%); отличники (51,4%); выпускники обычных средних школ (46,5%), студенты, приехавшие на обучение из других стран (51,6%), из сельской местности (47,7%); студенты, родители которых – работники органов местного самоуправления (мать – 52,3%, отец – 56,7%). И наоборот, не готовы принимать активное участие в общественной деятельности студенты, постоянно имеющие задолженности (48,1%); выпускники ПУ, колледжей, техникумов (30,3%); жители мегаполисов (30,2%). 39,1% студентов, не знающих о студенческом самоуправлении, – молодые люди, чьи матери – предприниматели (31,5%) или пенсионерки (30%).
Если провести сравнительный анализ данных социологических исследований 2006 и 2016 гг., то можно увидеть, что уровень информированности и участия студентов в различных формах самоуправления и соуправления в учебной и внеаудиторной деятельности растет: хорошо информированы о студенческом самоуправлении в 2006 г. были 7,5% респондентов, а в 2016 г. – 14,6%. Особенно заметен этот рост в вузах сельскохозяйственного, медицинского и строительного профилей подготовки.
Можно говорить о положительной динамике участия студентов в самоуправлении за последние 10 лет: сегодня в студенческом самоуправлении участвуют 14,6% учащихся обследуемых вузов, в 2011 г. их было 5,2%, в 2006 г. – 7,5%. Но все же 14,6% – это лишь седьмая часть общего числа опрошенных студентов. Из них 18% – студенты 1-го курса, 17% – студенты 2-го курса, 14,9% – 3-го курса, 9,8% – 4-го курса; 12,3% юношей и 16,1% девушек. Эти данные снова подтверждают гипотезу о том, что девушки и студенты на ранних этапах обучения с бóльшим интересом участвуют в организации, проведении и контроле различных студенческих мероприятий.
В соответствии с местом проживания до поступления в вуз ответы на данный вопрос распределились следующим образом: хорошо информированы и участвуют в студенческом самоуправлении 21,5% студентов-иностранцев, 15,4% жителей крупных городов, 14,5% студентов из средних и малых городов и 13,4% выходцев из сельской местности; хорошо информированы, но не участвуют в работе органов студенческого самоуправления 48,7% сельчан, 43,1% жителей средних и малых городов, 36,8% студентов из областных и краевых центров.
Ответ «ничего не знаю» наиболее распространен среди иностранцев (20,4%) и студентов из крупных мегаполисов (17,2%). Таким образом, урбанистический фактор незначительно влияет на распространение информации о самоуправлении в студенческой среде и, соответственно, на эффективность внедрения студентов в данный тип деятельности.
Отметим, что хорошо информированы о деятельности органов студенческого самоуправления и непосредственно участвуют в ней прежде всего студенты-медики (24,5%); девушки (16,1%), реже – юноши (12,3%); отличники (18,9%), реже – троечники (7,8%); студенты, проживающие в общежитии (16%); окончившие гимназию/лицей (17,7%), реже – общеобразовательную среднюю школу (13,5%); студенты, родители которых чаще являются работниками органов местного самоуправления (отец – 20%, мать – 18%), а также отцы – руководителями/ заместителями руководителя предприятий, учреждений (20,4%). Хорошо информированы, но не участвуют в работе органов студенческого самоуправления студенты сельскохозяйственного направления обучения (61,8%), выпускники традиционных средних школ (43,8%), в период обучения в вузе проживающие в общежитии (49,6%). Меньше информированы о студенческом самоуправлении студенты направления «Архитектура и дизайн» (42,9%). Ничего не знают о студенческом самоуправлении больше юноши (16%), чем девушки (11,7%); троечники (21,6%) и имеющие задолженности (37%), выпускники профессиональных училищ, техникумов, колледжей (22,4%); обучающиеся архитектурного профиля (21,9%); студенты, чьи родители – пенсионеры (мать – 18,4%, отец – 15,8%) или рабочие (мать – 18,3%, отец – 15,1%). Таким образом, знакомство с деятельностью студенческого самоуправления и участие студентов в нем прямо пропорционально воздействию следующих факторов: пол (женский), академическая успеваемость (на «отлично» и «хорошо»), тип оконченного среднего основного общеобразовательного учебного заведения (гимназия, лицей), управленческая и руководящая трудовая занятость родителей. Факторами обратной зависимости являются: плохая успеваемость, пол (мужской), диплом ПУ или техникума, родители – пенсионеры, квалифицированные и неквалифицированные рабочие.
Стоит также отметить, что по сравнению с данными 2006 и 2011 гг. готовность студентов вузов Ростовской обл. к более активному участию во внеучебной деятельности несколько снизилась – с 43,6% в 2006 г., 48,5% в 2011 г. до 42,3% в 2016 г. По-прежнему 30% студентов не смогли однозначно сказать, готовы ли они к активной общественной деятельности. Можно предположить, что их решение будет напрямую зависеть от направления деятельности той или иной молодежной организации. Из сравнительного анализа данных исследований 2006, 2011 и 2016 гг. видно, что самый большой прирост готовности студентов заняться вне-учебной деятельностью наблюдается в ДонГАУ (пос. Персиановский) – с 42,8% в 2006, 43% в 2011 до 61,3% в 2016 г.
Слабая заинтересованность студентов в участии в самоуправлении в вузе выявлена и в ходе исследования, проведенного в 2015 г. лабораторией социологии Пермского национального исследовательского политехнического университета: она оказалась «явно ниже уровня заинтересованности, зафиксированного социологами в санкт-петербургских университетах в 2007 г. Так, более половины учащихся вузов (55,3%) никак не участвует в деятельности органов студенческого самоуправления» [Лазукова 2015: 16]. Аналогичное исследование, проведенное в Челябинском государственном педагогическом университете в 2014 г., показало, что в деятельности органов студенческого самоуправления принимают участие лишь 15% студентов – это те, кто «таким образом реализует свои лидерские и коммуникативные способности» [Черникова 2014: 174].
В случае если студенты на вопрос: «Насколько Вы информированы о студен- ческом самоуправлении, направлениях его деятельности?» – отмечали вариант ответа: «хорошо информирован, участвую в нем», в анкете мы просили их указать, в каких именно сферах. Так, 42,8% студентов-активистов указали те или иные органы студенческого самоуправления и занимаемые должности (профком, профсоюз, студсовет, профбюро, куратор, староста, профорг); 16,2% студентов участвуют в культурно-массовой и творческой деятельности; 13,3% – в волонтерских акциях и мероприятиях; 7% – в общественной деятельности без конкретизации; 5,7% – в научной и спортивной сферах; 4,1% – в информационно-издательской деятельности; 2,5% – в работе студенческих и педагогических отрядов.
Серьезной результативности в воспитательной, информационно-пропагандистской работе в студенческой среде невозможно добиться без активизации деятельности молодежных организаций. Реализуя свои проекты и программы, молодежные объединения так или иначе решают собственными методами вопросы формирования гражданской позиции молодежи, их ответственного отношения к социальному окружению через реализацию в обществе собственных идей и намерений. 21,4% студентов в целом по обследуемым вузам являются членами каких-либо творческих, общественных или любительских объединений, функционирующих в университете: 56,3% студентов Казанского федерального университета, 38,7% студентов Уральского федерального университета, 18,5% студентов Северо-Кавказского федерального университета и 16,5% студентов Южного федерального университета. Однако, обратившись к динамике данного процесса, стоит сказать, что в Южном федеральном университете общественная активность студенческой молодежи заметно повысилась: с 4,9% в 2011 г. до 16,5% в 2016 г., несмотря на ее крайне низкий уровень по сравнению с другими федеральными вузами. Активное участие в работе молодежных организаций, объединений характерно чаще для девушек (23,5%), чем юношей (18,1%); первокурсников (28,2%), чем студентов «на выходе» (4-й курс – 14,3%, 5-й курс – 13,5%); отличников (26,1%); выпускников профильных школ (26,4%); иностранцев (32,3%); студентов, проживающих в общежитии (25%); студентов психолого-педагогического (26,4%), медицинского (25,8%), социально-гуманитарного (25,2%) направлений; чьи матери – руководители предприятий, учреждений или их заместители (24,5%). В то же время абсолютную пассивность демонстрируют юноши (81,9%); троечники (87%); студенты – архитекторы (93,3%) и экономисты (85%); чьи отцы – пенсионеры (85,2%) или безработные (85,5%).
И еще меньше молодых людей являются членами различных молодежных объединений, функционирующих в городе: 26,7% студентов Казанского, 19,1% – Уральского, только 9,0% Южного и 6,9% студентов Северо-Кавказского федеральных университетов.
Таким образом, распределение ответов по федеральным университетам дает основание утверждать, что студенты Казанского и Уральского федеральных университетов более мобильны и активны в плане участия в различных общественных объединениях вузовского и городского уровней. Однако общая совокупность активистов молодежных общественных организаций университета и города не очень велика. А ведь молодежные общественные формирования выполняют функцию, с одной стороны, реализации общественно значимых инициатив молодежи, с другой – социализации молодого человека, его становления как личности, как гражданина, способного участвовать в управлении, принимать решения.
И в заключение анализа блока вопросов по студенческому самоуправлению представим распределение ответов студентов на вопрос: «Принимали ли Вы в прошедшем году участие в каких-либо общественных, гражданских акциях?»
Утвердительно ответили только 28,7% участников опроса, отрицательно – 71,3%. Чаще участвовали в гражданских акциях девушки (31,8%); студенты 1-го курса (34,3%); отличники (34,7%); выпускники лицеев и гимназий (31,3%); жители средних и малых городов (30,2%); сельская молодежь (29,9%); медики (45%) и гуманитарии (34,5%) Казанского федерального университета (53,8%), Уральского федерального университета (45,7%), Ростовского государственного медицинского университета (44,3%). Пассивная студенческая молодежь – это юноши (75,7%); имеющие задолженности (85,2%); выпускники ПУ, техникумов (76,3%); жители крупных городов (73,2%); архитекторы (81%); студенты КалмГУ (80,8%), ВолГТУ (83,8%), РГЭУ (РИНХ) – 83%, АЧИИ ДонГАУ (г. Зерноград) – 82,9%.
В случае положительного ответа на этот вопрос респонденты должны были указать, в каких именно мероприятиях они принимали участие. Результаты открытого опроса таковы: бесспорно, 1-е место занимают мероприятия, посвященные 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне – 62,8% («Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Свеча памяти», «Знамя Победы», «Скажи “спасибо” ветерану», «Мы – помним», авто- и велопробеги). На 2-м месте – волонтерские акции и фестивали (17,1%), на 3-м месте – митинги «Крым – наш» и «Крымская весна» (5,2%). Менее 5% студентов отметили, что принимали участие в первомайской демонстрации (2,8%); организации и проведении общественных мероприятий, посвященных Дню города, Дню народного единства, Дню российского флага и др. (2,4%); в акциях здорового образа жизни («Против гриппа», «Я – донор» и др.) – 1,9%; спортивных мероприятиях (1,5%); праздниках семьи, материнства и детства («Бал семьи», «Бал младенца», «День матери») – 1,3%; акциях поддержки и помощи (детским домам, беженцам, домам престарелых, приюту бездомных животных) – 1,3%; научных мероприятиях («Фестиваль науки») – 1%.
Но не только решение жизненно важных вопросов по организации обучения, быта и досуга студентов входит в комплекс основных задач реализации студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление может быть рассмотрено и как средство социально-правовой самозащиты. Однако, как показали результаты опроса, студенты не считают, что в вузе нарушаются или игнорируются их права и интересы: отрицательно ответили 66,3%, а те, кто ответил утвердительно (12,4% опрошенных), приемлют только формы борьбы, разрешенные законом (митинги, петиции, собрания и т.п.) – 44,2% ответов респондентов.
Важно отметить, что и в 2006 г. для 55%, и в 2011 г. для 62,2% учащихся вопрос о нарушении их прав в вузе не являлся актуальным, но все же 20,2% студентов в 2006 г. и 14,6% в 2011 г. указали, что их права нарушаются, а остальные даже не знают, нарушаются или нет. Вместе с тем большинство студентов лишь кое-что слышали (61,4% в 2006 г. и 70,6% в 2011 г.) или ничего не знали о студенческом самоуправлении (29,6% в 2006 г. и 24,1% в 2011 г.), которое может дать возможности не только решения своих образовательных, бытовых проблем и организации досуга, но и оказать помощь в отстаивании своих прав и интересов. Однако желание и стремление студентов всех типов вузов принять более активное участие в общественной студенческой жизни побуждает вывести студенческое самоуправление на более высокий качественный уровень.
Итак, студенческое самоуправление призвано не только помогать студентам в решении важных вопросов в организации обучения, быта и досуга, но и выступать инструментом формирования организаторских и лидерских способностей. Однако, судя по ответам, только 14,6% общего числа опрошенных студентов хорошо информированы о студенческом самоуправлении и участвуют в нем. Примечательно, что «аппаратная» составляющая самоуправления явно превалирует над непосредственным участием студентов в культурной, спортивной, волонтерской и другой деятельности – 42,8% студентов-активистов самоуправления представлены в профкоме, профсоюзе, студсовете, профбюро, старостате и т.п.
По сравнению с количественными данными социологических исследований 2006 и 2011 гг. уровень информированности и участия студентов в различных формах самоуправления и соуправления в учебной и внеаудиторной деятельности растет. 21,4% студентов в целом по обследуемым вузам являются членами каких-либо творческих, общественных или любительских объединений, функционирующих в университете, 9,9% – участниками различных городских молодежных объединений. Подчеркнем, что внутренней интенцией современной молодежи является стремление к самостоятельности и свободе (в условиях общей разбалансированности агентов социализации), следовательно, потенциал развития студенческого самоуправления весьма велик – хотели бы и могли принимать более активное участие в общественной жизни почти половина студентов (45,5%).
Выявлена также зависимость более активного участия студентов в общественной жизни от гендерных, возрастных и учебных факторов: активное участие студентов в работе молодежных организаций характерно чаще для девушек (23,5%), первокурсников (28,2%), отличников (26,1%).
В заключение отметим, что студенческое самоуправление в обследуемых вузах во многом имеет перекос в глазах студентов в развлекательно-досуговую сторону. Существует осознание необходимости студенческого самоуправления для всех субъектов образовательного процесса, но возможность реального влияния самоуправления на ситуацию в вузе видит лишь часть студентов. Повышение эффективности, полезности самоуправления не должно происходить только «сверху», следует создавать возможные условия для самостоятельного решения студентами части значимых для них проблем.
В целом, успех воспитательной работы со студенческой молодежью зависит от позиции руководителя учебного заведения, понимания им важности этого направления деятельности вуза, от каждого преподавателя, его активной позиции по отношению к учащимся. Отметим, что полученные результаты социологического исследования в полной мере коррелируют с данными других эмпирических обследований, проведенных в различных регионах РФ, и имеют значение для определения путей воспитания и формирования будущей управленческой, научной, культурной, политической элиты российского общества.
Список литературы Студенческое самоуправление в современном российском вузе: тенденции развития
- Антипьев К.А. 2015. Содержание студенческого самоуправления в национальном исследовательском университете. -Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. № 3. 35-39
- Баженова Н.Г. 2012. Самоорганизация студенчества: заданность или данность? -Высшее образование в России. № 3. С. 81-86
- Лазукова Е.А. 2015. Социальный состав студентов, участвующих в самоуправлении. -Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. № 3. С. 16-20
- Социализация и воспитание студенческой молодежи вузов Ростовской области (сравнительный анализ результатов исследований 2006, 2011 и 2013 годов): научно-методическая монография (под общ. ред. В.И. Филоненко; науч. ред. И.А. Гуськов). 2014. М.: Вузовская книга. 516 с
- Черникова Е.Г. 2014. Состояние студенческого самоуправления в вузе (на материалах социологических исследований). -Вестник Челябинского государственного педагогического университета. № 4. С. 165-176