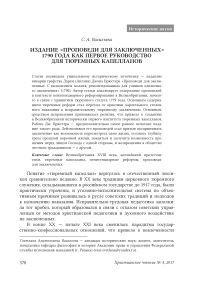Субботники и воскресники во Владимирской губернии в 1919-1921 гг. как форма политической и антирелигиозной пропаганды (по материалам местной прессы)
Автор: Калюжна Ольга Васильевна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 (75), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история возникновения субботников и воскресников в регионе на материалах местной прессы в контексте их антирелигиозной составляющей. Дается обзор периодической печати относительно содержания данных мероприятий. Поднимается вопрос реакции верующего населения Владимирской епархии на вновь насаждаемую традицию. Особую значимость данная тема приобретает в контексте появления в последнее время новых исследований, как следствие, нового взгляда на государственно-церковные отношения в годы гражданской войны, и возникающей, в связи с этим необходимостью более тщательного изучения регионального материала. Чрезвычайно важен тот факт, что само понятие «воскресники» имеет ограниченную распространенность, а исследования об этом феномене крайне малочисленны. Опираясь на архивные данные и сведения, полученные из такого ценного источника как периодическая печать, автор приходит к выводу о том, что с момента своего появления и субботники, и воскресники помимо функции безвозмездного благоустройства страны имели целью пропаганду атеизма.
Воскресники, субботники, антирелигиозная пропаганда, газета, религия, церковь, атеизм, антицерковный, гражданская война, пресса, владимирская губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/140223446
IDR: 140223446
Текст научной статьи Субботники и воскресники во Владимирской губернии в 1919-1921 гг. как форма политической и антирелигиозной пропаганды (по материалам местной прессы)
Понятие «тюремный капеллан» вернулось в отечественный лексикон сравнительно недавно. В ХХ веке традиции церковного тюремного служения, складывавшиеся в российском государстве до 1917 года, были практически утрачены, и уголовно-исполнительная система по объективным причинам развивалась в русле советских традиций и подходов к назначению наказания. Исправительно-трудовая педагогика заполнила тот пробел, который образовался в связи с отказом советских управленцев от методов христианской педагогики и духовного воздействия на заключенных.
В конце XX — начале XXI века сменилась парадигма государственно-конфессиональных отношений, что привело к вовлеченности
религиозного фактора в процесс формирования гражданского общества. Отечественная уголовно-исполнительная система не осталась в стороне от этих процессов: в последнее десятилетие наблюдается активное возрождение традиций духовного попечения о заключенных. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по тюремному служению Епископ Красногорский Иринарх в приветственном обращении к посетителям сайта отметил положительный отечественный и мировой опыт тюремного служения, который, по его мнению, «свидетельствует о том, что возрождение института тюремного духовенства способно принести пользу государству и обществу»1.
В связи с этим интерес представляют набирающие популярность научные исследования истории, теории и практики мирового и отечественного опыта тюремного служения. Обращение к истокам социального института тюремных капелланов приводит исследователя к изучению причин и условий английских пенитенциарных2 реформ конца XVIII — середины XIX века. Должность тюремного капеллана3 с предполагаемым содержанием «не выше пятидесяти фунтов в год» в штате пенитенциарного учреждения впервые появляется в Тюремном статуте 1779 года. Однако в этом первом своде тюремных правил должность пастора предусматривалась лишь для некоторых тюрем, и не являлась обязательной для всех учреждений. Закрепление статуса тюремного капеллана как обязательной штатной должности впервые встречается в Общем Законе о тюрьмах 1823 года, который ввел в действие Статутный кодекс тюремных правил и детализировал все стороны внутреннего управления английскими пенитенциариями. В отечественной исследовательской практике этот процесс описан историками-юристами с точки зрения правовой регламентации деятельности тюремного капеллана4 и историками-богословами5 в контексте изучения христианских традиций тюремного служения.
Цель данной статьи — представить российскому читателю контент-анализ интересного исторического источника, который предположительно можно назвать самым ранним печатным руководством к деятельности тюремного священника. Речь пойдет об издании 1790 года под названием «Проповеди для заключенных. С включением молитв, рекомендованных для узников одиночного заключения»6. Мы еще не встречали в отечественной научной литературе упоминаний и ссылок на этот документ, что позволяет предположить, что он пока не известен в научных кругах. Кроме историков и ученых-пенитенциаристов, издание может заинтересовать педагогов, изучающих концепции духовно-нравственного перевоспитания осужденных в исторической ретроспективе.
Эпиграф к изданию посвящен знаменитому филантропу, врачу, идейному вдохновителю английских пенитенциарных реформ Джону Говарду, который умер от чумы как раз в год выхода брошюры: «В память о Джоне Говарде, который неутомимо стремился облегчить бедственное положение узников… и пожертвовал собой в служении человечеству». Знаменитый англичанин действительно всю жизнь посвятил изучению условий содержания в тюрьмах Англии, европейского континента и Российской Империи, смерть настигла его в российском Херсоне, где он пытался воплотить свои предложения по борьбе с эпидемическими заболеваниями в тюрьмах и больницах для малоимущих. На гранитном обелиске, возведенном в Херсоне вскоре после его смерти, на русском и латинском языках выбита надпись «Vixit propter alios» — жил для других.
Дж. Говарду принадлежит заслуга оформления идеологической основы тюремных преобразований, основанных на принципе религиозно-нравственного воздействия на заключенных, практике приучения их к труду и честной жизни. Эти идеи открыли новую эру в уголовном правосудии, которое в течение XIX столетия постепенно сдвигалось от карательной традиции к принципу исправления наказанием.
Практическое воплощение принципа религиозно-нравственного перевоспитания осужденного нашло выражение в учреждении института тюремных капелланов и введении в тюрьмах элементов религиозного и светского обучения. Посещая тюрьмы в Англии и на континенте, Дж. Говард уделял особое внимание вопросу о наличии в местах заключения часовни и духовника. В девяти случаях из десяти таковых не наблюдалось, но даже там, где ему удавалось найти тюремного священника, он оставил весьма нелестные описания: «Таковой священник был готов разве что распить бутылку джина или перетасовать колоду карт со своей паствой, а по воскресеньям пробормотать проповедь в комнате отдыха. Да и что он мог тогда поделать, даже если бы был прилежен в своем служении? Пьянство и необузданный разврат, царивший в тюрьме, сломили бы дух самого рьяного священника»7.
Ратуя за повсеместное введение пастырского тюремного служения, реформатор обращал внимание парламента и общества на тот факт, что учреждение института тюремных капелланов будет эффективным и действенным только тогда, когда последует в контексте масштабной реформы всей системы наказания. Таким образом, в Великобритании реформаторское движение за изменение пенитенциарной системы на основе гуманизма и верховенства закона было тесно связано с религиозными исканиями английского протестантизма.
Анализируемое издание состоит из двух частей: первая часть содержит шесть проповедей-бесед, построенных на соответствующих притчах и мудростях Священного Писания, вторая — пятнадцать молитв для различных категорий узников: осужденных к смертной казни, подлежащих одиночному заключению, осужденных за воровство и грабеж и т. п.
В предисловии автор — преподобный Джон Брюстер8 — ссылается на главную цель начавшегося в Англии стараниями Дж. Говарда тюремного реформирования: «Забота о духовном и телесном здоровье тех, кто оказался в заточении, возбуждение в них таких мыслей и чувств, которые могут, в конечном счете, вернуть их к честной жизни и сделать полезными членами общества»9. Брюстер понимает масштабы и сложности пастырского тюремного служения: «задача слишком велика, чтобы надеяться на успех», «ведь в замкнутом пространстве собрались самые беспринципные и самые постыдные персонажи», но, — продолжает размышлять пастор, — «мир ведь еще больше, но Основатель нашей Религии послал своих учеников, чтобы обратить целые народы (выделено автором произведения)»10. Здесь же в предисловии Джон Брюстер отдает свой голос в пользу принципа одиночного заключения.
Полемика по вопросу выбора идеальных условий духовного перерождения и исправления заключенных — одиночное или коллективное заключение с организацией труда — корнями уходят в богословские споры различных протестантских конфессий. В последней четверти XVIII века «эпицентр» дебатов переместился в молодую республику — Соединенные штаты Америки, где при непосредственном участии и на основе теологических принципов различных групп протестантов возникли первые в мире прогрессивные пенитенциарные системы — пенсильван-ская 11 и обернская 12. По мнению Брюстера, только в условиях одиночного заключения возможно духовное перерождение из человека-«примера худшей морали» в предрасположенного к добру и возвращению в общество христианина13.
Автор признает, что на первых порах одиночное заключение может сделать узника «мрачным и подавленным», но настаивает на том, что это лучший момент для того, чтобы «вложить в его руки Текст», который возбудит в нем серьезные размышления, и тогда возникает надежда
«что его сердце будет исправлено, и он во всех отношениях предстанет совершенно новым человеком»14. На этом этапе роль тюремного капеллана является ключевой: «Он не будет осуждать, но станет увещевать от расточительности и безумия… раскроет милосердие, которое содержится в Евангелие »15.
Мотивом первой проповеди «Узник надежды» послужила выдержка из Книги пророка Захарии «Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне»16. Брюстер открывает проповедь измышлением: «Никогда мы так сильно не нуждаемся в Божьем утешении, как тогда, когда ощущаем тяготы бедствия, и никогда бедствие не карает так тяжко, как в том случае, когда мы понимаем, что оно является следствием нашей вины»17. Богослов обращается к теме совести, сравнивая ее с бесконечной чередой образов, которые проносятся перед глазами, и как велико бы не было желание не видеть их снова, они «выплывают из самых отдаленных уголков мира, из недр земли, как свидетельства нашей вины». На это Брюстер отвечает изречением из Книги пророка Иеремии «Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь»18. Но, признавая присутствие Господа во всех наших делах и помыслах, богослов призывает именно в этом обрести укрепление и надежду.
Очевидно, преподобный Джон Брюстер был близок к умеренным пуританам, которые не разделяли веру ортодоксальных кальвинистов в предопределение и старались распространять убежденность в том, что покаяние и возвращение к благочестивой жизни может привести к избавлению. Отвечая языком пророков, Брюстер стремился внушить заключенным надежду на Божье милосердие: «Хоть Я отягощал, более не буду отягощать. И ныне Я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву»19. Любопытно, что автор использует в основном ветхозаветную риторику, особенно в тех случаях, когда для усиления эффекта проповеди нужно выделить тяжесть греха и отступления, чтобы возможность покаяния и прощения на контрасте воспринималась значительно эмоциональней. Итак, первая часть проповеди расцвечена образами «разрушительного греха», «плача нечестивцев», «огненной серы», «грехопадения одного, которое обратилось грешностью всего человечества»… Однако, в резюмирующей части богослов переходит к образам Нового завета: «правдою одного, сделались праведными все», «благодать Божия сошла через Иисуса Христа»…20 Словами апостола Павла, Брюстер увещевает узников: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу»21. Таким образом, богослов призывает осужденных за преступления открыть себя и в себе религию, которая даст им надежду на спасение22.
Вторая проповедь на тему «Использование одиночества заточения» открывается 101 Псалмом «Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою»: ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников23. Первая часть проповеди в традиционной для пуритан манере посвящена описанию греховной природы человека, того «необозримого расстояния», которое разделяет Бога и творение рук Его. В размышлениях о «неисповедимых путях», которые привели преступников в тюрьму: о «мимолетной сладости греха», «суетной жизни», «пребывании в притонах», «продажных товарищах по цеху» и пр., Брюстер продолжает аргументацию тезиса о выгодах одиночного заключения, начатую им еще в предисловии. «Я вижу свою миссию в том, чтобы раскрыть перед вами преимущества, которые открываются от ниспосланной уединенности от мира… Я рекомендую вам пересмотреть моменты прошлой жизни и спутников ваших вожделений. Я бы хотел, чтобы вас постоянно кружило в смятении ума и упреках совести. Я хотел бы попросить вас проследить каждый момент вашего пути — с какими усилиями и трудностями сопряжено было обладание награбленным, подозрения и зависть со стороны подельников, постоянный трепещущий страх попасть в руки правосудия. Стоило ли приносить в жертву сиюминутному удовольствию греха вашу Свободу? Стоило ли ради этого поступиться Честностью, Истиной, Религией? Ради этого вы отреклись от ощущения внутреннего покоя и домашнего счастья, отреклись от жены, которая могла бы успокоить ваши печали, от детей — утешения в старости, от любви к Богу и других благодатей, похоронив себя в одиночестве тюрьмы?»24
В отличие от первой проповеди, расцвеченной отвлеченными образами Священного Писания, здесь мы наблюдаем личную позицию автора, вложившего так много «Я» в моральное содержание данной беседы. Еще одна интересная деталь — позиция Брюстера по отношению к месту и роли государственной власти в вопросах назначения и исполнения наказания. Со времен средневекового правосудия религия была непосредственно вплетена в уголовное право: «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое»25, но в дискурсе данной работы богослов не рассматривает гражданскую власть как карательный механизм, а наоборот, обращаясь к преступникам, отмечает: «Законы нашей страны являются инструментами не отмщения, но коррекции»26. Он разъясняет своей пастве, что наказание, назначенное магистратом, не следует рассматривать «как обиду», ведь с одной стороны его цель — огородить общество от зла, с другой — «остановить ваши успехи во зле» и предотвратить повторное преступление, дать шанс на «исцеление от греха»27.
Третья проповедь «О смирении в тюрьме» открывается Плачем Иеремии «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои»28. Пастор затрагивает непростую в богословском отношении проблематику: как доказать внимающим ему, «что пребывание в заточении, в котором как нигде реальны страдания и неприятности, боль, гонения и скорбь, будет способствовать поиску и укреплению религиозных зна-ний»29. В этой проповеди автор предсказуемо обращается к примерам ветхозаветных и новозаветных праведников, которые, «пройдя горнило страданий», обрели благодать. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни30, — заключает богослов, призывая еще раз согласиться с тем, что причина всех скорбей — те нечестивые действия, которые и привели преступника в тюрьму. Но прежде чем станет «слишком поздно», чтобы избежать «наказания нечестивых», проповедник заключает устами апостола Павла: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная»31.
Четвертая проповедь «О влиянии дурной компании» начинается с предостережения Коринфянам: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы»32. Создается впечатление, что Брюстер намеренно чередует беседы откровенно религиозного характера с назиданиями моральной направленности, наполненные злободневным социальным содержанием. Он перечисляет возможные соблазны, которые заманили узника на «дурной путь», как младшего сына из Притчи о блудном сыне: распутство, блуд, сребролюбие, алкоголь… И вновь подводит к мысли, которая лейтмотивом проходит через все его проповеди: «Ваша нынешняя ситуация должна восприниматься как возможность исправить эти прискорбные последствия влияния дурного общества. Вероятно, никакой лучшей возможности не могло бы представиться для того, чтобы установить в душе порядок и обратиться к Господу всем сердцем своим»33. В завершение беседы он еще раз призывает разорвать всякую связь с дурными товарищами, не страшась их насмешек и презрения, но укрепляя себя верой.
Прологом к пятой беседе, рекомендованной тюремным капелланам для общения с узниками, стали евангельские события, описанные в 23-ей главе Евангелия от Луки о двух злодеях, которых вели на смерть с Иисусом: «Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»34. Основная мысль проповеди сводится, с одной стороны, к акцентированию внимания на то обстоятельство, что, не смотря на справедливое осуждение на смерть библейского злодея, «потому что достойное по делам принял», он заслужил место рядом со Спасителем в раю. С другой стороны, автор назидает: «все-таки многое предстоит сделать, прежде чем заслужить себе право на благословения Евангелия»35.
Проповедь «Кающийся вор» — призыв опомниться и изменить свою жизнь так глубоко, чтобы Спаситель мог сказать «ныне же будешь со Мною в раю». Брюстер в очередной раз демонстрирует отход от ортодоксальных пуританских доктрин о божественном предопределении к осуждению, и стремление применять новозаветные истины для возбуждения надежды на спасение и христианское милосердие.
Тем не менее, последняя, шестая проповедь «О страшном суде», пожалуй, самая торжественно-устрашающая и отвлеченная. Со времен карательной традиции средневековья и раннего нового времени священник был непременным участником прелюдии, разыгрываемой перед исполнением приговора к смертной казни. Для британцев повешение преступников в деревушке Тайберн в XVIII веке превратилось в одно из самых популярных массовых шоу, собиравших толпы до нескольких десятков тысяч человек! Работу палача предваряла проповедь священника, разъяснявшего притихшей толпе «глубину пучины страданий», в которую погружалась душа грешника». Дидактически выверенная Брюстером картина Страшного суда балансирует на грани устрашения и робкой надежды. Понимая, что целевая аудитория его проповедей — узники, среди которых непременно встретятся осужденные к смертной казни, остававшейся в XVIII еще очень популярной мерой наказания, богослов обращается к Евангелию от Матфея «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне»36. Подводя читателя ко второму разделу своего издания — молитвам, проповедник советует использовать все время (никто не знает сколько ему осталось!) в молитвах, смирении, покаянии и надежде37.
За неимением точных данных трудно предположить, какой резонанс имело данное издание. Плодотворная публицистическая карьера Джона Брюстера насчитывает более трех десятков лет и более десятка изданий, знаменитость ему принесло исследование светского характера «Местная история и древности местечка Стоктон-он-Тис». Интересующей нас тематике посвящено еще два небольших по объему очерка: «О предотвращении преступлений и преимуществах одиночного заключения» (1790) и «Об укреплении религии в тюремных учреждениях» (1808). Тем не менее, его личный публицистический дебют можно по праву считать и первым изданием такого рода в истории развития службы тюремных капелланов. К слову, подобные издания в отечественной практике церковного тюремного служения появились почти век спустя38.
Список литературы Субботники и воскресники во Владимирской губернии в 1919-1921 гг. как форма политической и антирелигиозной пропаганды (по материалам местной прессы)
- Андреев В. М. Под знаменем пролетариата (трудовое крестьянство в годыгражданской войны. М.: Мысль, 1981. С. 247.
- Басова Н. А. Церковная жизнь в Карелии в конце 1920-х -начале 1930-х годов//Ante annum: сборник научных работ студентов и аспирантов исторического факультета. Петрозаводск, 2006. Вып. 3. С. 71-86.
- Великий почин в деревне//Районная газета (г. Владимир) № 61. 1919,30 декабря, С. 4.
- Всероссийский воскресник//Стенная газета Владимирского районного отделения РОСТА № 7. 1920. С. 1.
- Воскресник//Призыв (г. Владимир) № 1. 1920, 1 января. С. 4.
- Гоглов А., свящ. Владимирское лихолетье: православная Церковь на Владимирщине в годы безбожной смуты. М.: Приход храма святого духа сошествия,2008. С. 430.
- За неявку на субботник//Луч (г. Муром) № 8. 1921, 29 января. С. 4.
- Как работали Александровские коммунисты в Рождественские праздники//Бюллетень Владимирского губернского комитета РКП (г. Владимир) № 24.1920, 26 января. С. 4.
- Коммунистический воскресник//Районная газета (г. Владимир) № 51. 1919,12 декабря. С. 4.
- Комсомольцы и молодежь Владимирской губернии в годы гражданской войны (1918-1920). Сборник документов. Владимир: Владимирское книжное издательство, 1958. С. 300.
- Минин С. Н., свящ. Очерки по истории Владимирской епархии (Х-ХХ вв.).Владимир: Нива. 2004. С. 152.
- Можно ли верить в Бога и быть коммунистом//Бюллетень Владимирского губернского комитета РКП (г. Владимир) № 36. 1920, 30 мая. С. 1.
- Мы таких гоним вон//Бюллетень Владимирского губернского комитета РКП (г. Владимир) № 48. 1920, 19 октября. С. 3.
- На воскреснике//Призыв (г. Владимир) № 1. 1920, 1 января. С. 2.
- На воскреснике//Районная газета (г. Владимир) № 12. 1920, 29 января. С. 3.
- Отчет о субботниках по владимирскому уезду//Бюллетень Владимирского губернского комитета РКП (г. Владимир) № 27. 1920, 5 марта 1920. С. 1.
- Рай только на земле//Призыв (г. Владимир) № 65. 1920, 1 мая. С. 2.
- Работа культурника в деревне. Инструкция культурно-просветительским кружкам Владимирской губернии. Владимир: Издание Полит.-Просветительного Подотдела Владимирского Губотнароба, 1920. С. 28.
- Работа среди пролетарок и крестьянок//Бюллетень Владимирского губернского комитета РКП (г. Владимир) № 25. 1920, 6 февраля. С. 4.
- РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 4. Дд. 155-176, 179
- Синанов Б. А. Некоторые аспекты антирелигиозного воспитания молодежи Северной Осетии в 1920-1930-е гг. // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2011. № 9. С. 114-119.
- Субботники//Бюллетень Владимирского губернского комитета РКП (г.Владимир) № 24. 1920, 26 января. С. 3.
- Трудящиеся Владимирской губернии в годы гражданской войны (1918-1920): сборник документов. Владимир: Владимирское книжное издательство,1958. С. 301.
- У истоков коммунистического труда: сборник/под ред. Г. Д. Костомарова.М.: Соцэкгиз, 1959. С. 268.
- Хакимов Р. Ш. Эксплуатация энтузиазма: советский опыт (1918-1991)//Вест-ник ЧелГУ. Челябинск, 2016. № 2. С. 182-189.