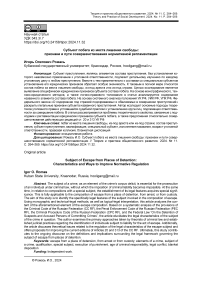Субъект побега из места лишения свободы: признаки и пути совершенствования нормативной регламентации
Автор: Ромась И.О.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Субъект преступления, являясь элементом состава преступления, без установления которого невозможно привлечение к уголовной ответственности, подлежит детальному изучению по каждому уголовному делу о любом преступлении. Вместе с тем применительно к составам со специальным субъектом установление его юридических признаков обретает особую значимость. К таковым в полной мере относится состав побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Целью исследования является выявление специфически юридических признаков субъекта состава побега. На основе монографического, технико-юридического методов, а также логико-правового толкования в статье анализируется содержание названного элемента состава побега. На основе системного анализа положений УК РФ, УИК РФ, УПК РФ, Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» раскрыты легальные признаки субъекта названного преступления. Автор исследует основные подходы теоретиков уголовного права и устоявшейся судебной практики к установлению круга лиц, подлежащих ответственности за совершение побега. В статье рассматриваются проблемы теоретического свойства, связанные с подходами к регламентации юридических признаков субъекта побега, а также предложения относительно совершенствования действующих редакций ст. 20 и 313 УК РФ.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, состав преступления, субъект преступления, квалификация, специальный субъект, исполнение наказания, возраст уголовной ответственности, правовая коллизия, бланкетная диспозиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149146975
IDR: 149146975 | УДК: 343.3/.7 | DOI: 10.24158/tipor.2024.11.32
Текст научной статьи Субъект побега из места лишения свободы: признаки и пути совершенствования нормативной регламентации
Состав побега традиционно присутствует в отечественном уголовном праве. С течением времени менялся подход законодателя к его объекту, однако регламентация субъекта побега осуществлялась в источниках уголовного права России на всем протяжении его становления и развития главным образом унифицировано. Несмотря на лаконичное и лишенное оценочных категорий содержание диспозиции ч. 1 ст. 313 УК РФ, в уголовно-правовой доктрине в настоящее время целый ряд аспектов правовой оценки признаков субъекта побега формирует научную дискуссию. Субъект побега, согласно диспозиции ч. 1 ст. 313 УК РФ, – специальный – это лицо, достигшее возраста 16 лет, отбывающее уголовное наказание или находящееся в предварительном заключении1.
В отношении тех, кто содействует побегу, отдельная криминализация в УК РФ отсутствует, а уголовная ответственность наступает по общим правилам института соучастия, в зависимости от той роли в совершении побега, которая фактически была выполнена организатором, пособником или подстрекателем (ст. 34 УК РФ). Однако такой подход был присущ отечественному законодательству не всегда. Так, в целом ряде статей Уложения «О наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.2 устанавливалась ответственность в отношении лиц, содействовавших побегу (ст. 335, 337, 338). Наказание грозило лицам, которые, применяя насилие или взлом, освобождали осужденного или арестованного во время пересылки.
Указанный подход был сохранен в Уголовном уложении 1903 г.3, причем содействие побегу признавалось, согласно ст. 173 названного источника права, более общественно опасным деянием, нежели сам побег, и каралось тюремным заключением. Своего апогея борьба с пособниками побега достигла в первые годы советской власти, когда была существенно ужесточена ответственность не только за побег как таковой, но и введена ответственность сокамерников бежавшего, которые по принципу «круговой поруки» признавались его пособниками (п. 37 Постановления ВЦИК «О лагерях принудительных работ» от 17 мая 1919 г.)4.
Однако вектор развития советского законодательства в части противодействия побегам существенно изменился с принятием Постановления ВЦИК от 16.10.1924 г.5, которым был декрими-нализован побег из мест заключения, что отразилось в новой редакции ст. 95 УК РСФСР 1922 г.6 Вместе с тем особо следует подчеркнуть, что при этом была сохранена ответственность для лиц, содействовавших побегу (ст. 94 УК РСФСР 1922 г.). В УК РСФСР 1960 г. оказание помощи в осуществлении побега подлежало правовой оценке исключительно в рамках института соучастия, поскольку отдельная криминализация указанных деяний в нем отсутствовала. Таким образом, отечественное уголовное законодательство на протяжении всего своего периода становления и развития по-разному подходило к вопросу определения круга субъектов ответственности за побег.
К уголовной ответственности, согласно ст. 313 УК РФ, могут быть привлечены только лица, отбывающие лишение свободы или арест, а также лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В силу сказанного правовой анализ рассматриваемого состава не может быть полным без уточнения юридических признаков учреждений, в которых исполняются указанные наказания, и мест содержания под стражей.
Согласно ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ) местом исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в РФ являются исправительные учреждения, которые в соответствии со ст. 74 названного закона включают в себя: исправительные колонии (колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии особого режима), воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения1. Вместе с тем в качестве места лишения свободы может выступать и следственный изолятор для осужденных: а) оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; б) в отношении которых приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в исправительные учреждения для отбывания наказания; в) перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое; г) оставленных в следственном изоляторе или переведенных в следственный изолятор в порядке, установленном ст. 77.1 УИК РФ; д) оставленных в следственных изоляторах с их согласия на срок не более 6 месяцев (ч. 1 ст. 74 УИК РФ).
При квалификации побега из мест лишения свободы необходимо отличать его от побега, совершенного из-под надзора: побег из колоний-поселений, что предусмотрено ч. 1 ст. 129 УИК РФ; побег осужденных, в отношении которых применен надзор в порядке ч. 3 ст. 121 УИК РФ, и лиц, к которым применен бесконвойный режим в порядке ч. 1 ст. 96 УИК РФ.
Итак, побег из мест лишения свободы может быть двух видов: из-под охраны и из-под надзора. Указанное обстоятельство на квалификацию деяния не влияет, однако подлежит учету в процессе индивидуализации наказания виновному. Таким образом, в части закрепления категории «места лишения свободы» диспозиция ст. 313 УК РФ, хотя и является бланкетной, проблем толкования не формирует, поскольку достаточно точно определена в соответствующих нормах УИК РФ.
В то же время возникает вопрос относительно того, почему в ч. 2 ст. 20 УК РФ отсутствует указание на ст. 313 УК РФ, что исключает привлечение к ответственности лиц, не достигших 16-летнего возраста и отбывающих уголовное наказание в воспитательных колониях. В данном случае наблюдается внутриотраслевая коллизия положений ч. 1 ст. 313 УК РФ и ч. 2 ст. 20 УК РФ, поскольку в ч. 1 ст. 313 УК РФ не содержится изъятий из установленных законом мест лишения свободы, в которые, как было отмечено ранее, включены и воспитательные колонии.
Апеллирование к тому, что побеги из воспитательных колоний редки, нельзя признать состоятельным, поскольку общественная опасность указанного деяния определяется тем, что лицо от 14 до 16 лет, уже привлеченное к ответственности за ранее совершенное преступление, не переосмыслило пагубность прежнего образа жизни, а, напротив, проявляет в своем поведении устойчивое нежелание к исправлению, пренебрежение к проявленной в отношении него государственной воле. Отсутствие уголовной ответственности за побег для лиц в возрасте от 14 до 16 лет формирует дополнительный аспект мотивации на его совершение.
Не вызывает проблем толкование и места исполнения ареста, поскольку в ст. 68 УИК РФ к таковому отнесены арестные дома.
Достаточно четко определены в действующем законодательстве и юридические признаки места содержания под стражей. Согласно ст. 7 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» к местам содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в РФ отнесены: следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы; изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел; изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов федеральной службы безопасности; в случаях, специально оговоренных в законе, – учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы и гауптвахты. В отдельных случаях таковыми закон называет «помещения, определенные капитанами морских судов и начальниками зимовок и приспособленные для этих целей»2.
В соответствии с ч. 1 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ)3 заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. Исходя из прямого указания ч. 1 ст. 101 УПК РФ, об избрании меры пресечения дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд – определение. Для квалификации побега важное значение имеет то обстоятельство, что указанные процессуальные акты о содержании под стражей не прекратили своё действие, а подозреваемый или обвиняемый фактически взяты под стражу уполномоченными лицами (Качмазова, 2022: 93).
Устоявшейся в современной уголовно-правовой доктрине является точка зрения о том, что лица, в отношении которых незаконно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а равно незаконно осужденные к лишению свободы, не подлежат уголовной ответственности за по-бег1. Солидарна с такой правовой оценкой и судебная практика. Верховный Суд РФ в целом ряде судебных решений подтверждает указанный вывод, подчеркивая, что незаконность избрания меры пресечения или осуждения лица образует для него ситуацию необходимой обороны, следовательно, побег не должен влечь правовых последствий в виде уголовной ответственности2.
Вместе с тем в теории неоднозначно решается вопрос квалификации побега из следственного изолятора, совершенного осужденным к лишению свободы, но находящимся в данном учреждении в порядке ст. 77 УИК РФ (Горелик, Лобанова, 2005: 446; Малин, 2020: 43; Сорокин, Сорокина, 2021: 108–111). Одни авторы считают, что побеги такого рода подлежат правовой оценке исходя из юридических признаков места совершения – следственного изолятора. Другие, позиция которых представляется более обоснованной, отталкиваются от гипотезы, что в данном случае определяющим должен быть не вопрос места совершения побега, а правовой статус лица, его совершившего. Так как в названной норме прямо определяется таковой как статус «осужденных к лишению свободы», соответственно, для них следственный изолятор выполняет функцию места отбывания наказания. Подобный вывод также следует из толкования ч. 3 ст. 77 УИК РФ, согласно которой устанавливается особый порядок нахождения указанных лиц в следственном изоляторе, отличный от порядка содержания обвиняемых/подозреваемых, в отношении которых реализуется соответствующая мера пресечения. Таким образом, побег указанных лиц из следственного изолятора следует квалифицировать как побег из мест лишения свободы.
Однако иная правовая оценка действий виновного должна даваться в ситуации побега лица, оставленного в следственном изоляторе в порядке ст. 77.1 УИК РФ. В данном случае нахождение в нем осужденного к лишению свободы не связано с исполнением наказания, а вызвано необходимостью осуществления следственных действий по уголовному делу, находящемуся в процессе производства. Так, по мнению П.М. Малина, содержание осужденных в СИЗО на правах подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших в порядке ч. 1, 2 ст. 77.1 УИК РФ можно трактовать как меру суперизоляции (Малин, 2020: 42). В данном случае представляется верной квалификация побега как осуществленного из-под стражи. Сходная правовая оценка поддерживается и в трудах иных отечественных авторов (Горелик, Лобанова, 2005: 446).
К субъектам побега следует отнести осужденных, не находящихся непосредственно в месте лишения свободы или следственном изоляторе, а конвоируемых к месту следования. Однако необходимо подчеркнуть, что лишь конвоируемые осужденные к лишению свободы либо лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, являются субъектами уголовно наказуемого побега. В этой связи вряд ли можно выразить солидарность с А.В. Шесле-ром, который включает в круг субъектов рассматриваемого преступления любых конвоируемых лиц (Шеслер, 2017: 104). Данное несогласие проистекает из системного анализа нормативных положений уголовно-исполнительного законодательства. Так, согласно ему, режим конвоирования возникает на этапе выдачи лица вооруженному караулу, протекает во время охраны его при движении в транспортных средствах, охраны его в месте пребывания и прекращается в момент сдачи лица в учреждение (Михеева, Шиханов, 2018: 59).
Инструкция по осуществлению служебной деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию, утвержденная совместным приказом Минюста России и МВД России от 24.05.2006 г. № 199/369, устанавливает несколько режимов конвоирования3: режим лиц, уже осужденных к лишению свободы; и режим конвоирования лиц, содержащихся в следственных изоляторах (Михеева, Шиханов, 2018: 69). Следовательно, к уголовно наказуемому можно отнести лишь побег конвоируемых, лишенных свободы, и конвоируемых, содержащихся под стражей. Иных конвоируемых, например, задержанных по подозрению в совершении преступления, помещенных в ИВС, к субъектам уголовно наказуемого побега отнести нельзя. К аналогичному выводу приходят также авторы одного из комментариев к Уголовному кодексу РФ: «Побег осужденного к лишению свободы из транспортного средства при конвоировании, подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей, из кабинета следователя, из зала судебного заседания квалифицируется по данной статье» (Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)…, 2021: 236).
Исходя из приведенных аргументов, нельзя поддержать вывод о том, что побегом из-под стражи являются действия лица, задержанного по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91–96 УПК РФ, самовольно покинувшего место задержания1.
Несмотря на то, что действующее законодательство позволяет установить юридические признаки места совершения побега достаточно точно, отдельные представители отечественной уголовно-правовой науки предлагают расширительное толкование указанного признака объективной стороны названного деяния, включая в него изоляторы временного содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления (ст. 9 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений») (Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)…, 2014: 712). Истоки этой дискуссии берут начало еще в трудах советских авторов (Власов, Тяжкова, 1968: 128). Находит указанная точка зрения сторонников и в современный период (Литвинов, 2008: 4). Так, по мнению И.В. Чепика, задержанное по подозрению в совершении преступления лицо до момента избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу должно нести уголовную ответственность за совершение побега (Чепик, 2017: 193).
Подобное толкование субъекта побега противоречит содержанию диспозиции ст. 313 УК РФ и коррелирующих ей положений смежного отраслевого законодательства. В данном случае более верной видится позиция Р.А. Сабитова о том, что «субъектом преступления не могут быть лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, поскольку такие лица, водворенные в изолятор временного содержания или помещение гауптвахты, не считаются находящимися в предварительном заключении...»2. Подобный вывод характерен для большинства исследований уголовно-правового аспекта побега (Беларева, 2017: 19).
Говоря о перспективе внесения изменений в ч. 1 ст. 313 УК РФ в части включения в нее всех задержанных, совершивших побег, следует заметить, что обоснованность такой новеллы вызывает сомнения. Прежде всего, полагаем, что в силу закрепления в ст. 91 УПК РФ широкого круга оснований для задержания указанная мера с высокой степенью вероятности может быть применена к лицу, не причастному к событию преступления. В этой связи криминализация побега задержанного лица не будет отвечать требованиям криминологической обоснованности, прежде всего в силу отсутствия достаточного уровня общественной опасности побега указанных лиц как такового.
Юридико-правовой анализ признаков субъекта побега дает основание для вывода о том, что диспозиция ст. 313 УК РФ, обладая бланкетным характером, тем не менее через имеющуюся возможность легального толкования категорий «место исполнения лишения свободы», «место исполнения ареста», «место содержания под стражей» позволяет с необходимой правовой определенностью установить границы квалификации побега по кругу лиц. Вместе с тем отказ от включения в ч. 2 ст. 20 УК РФ указания на ст. 313 УК РФ видится противоречием содержанию последней, поскольку в ней не установлено каких-либо исключений из мест исполнения лишения свободы, в систему которых включены и воспитательные колонии, где отбывают наказание лица, достигшие 14 лет и не достигшие 18 лет.
В силу сказанного необходимо внести дополнение соответствующего содержания в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Предложение о расширении границ ответственности за побег распространением положений ст. 313 УК РФ на задержанных подозреваемых видится криминологически не обоснованным. Кроме того, неосновательны и предложения о криминализации в отдельной норме ответственности пособников побега, как это было осуществлено в уголовно-правовых нормах дореволюционного (конца XIX в.) и первых лет революционного законодательства (первой четверти XX в.). Вместе с тем отсутствие дифференциации ответственности за побег, совершенный при пособничестве должностного лица, следует признать существенным пробелом отечественного законодательства.
Список литературы Субъект побега из места лишения свободы: признаки и пути совершенствования нормативной регламентации
- Беларева О.А. Некоторые вопросы квалификации побега из-под стражи, совершенного в соучастии // Вестник Кузбасского института. 2017. № 4 (33). С. 18-23.
- Власов И.С., Тяжкова И.М. Ответственность за преступления против правосудия: монография. М., 1968. 136 с.
- Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: монография. СПб., 2005. 491 с.
- Качмазова А.В. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 11-2. С. 92-96. https://doi.org/10.23672/e2741-2008-8565-w.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. и доп. / под ред. Г.А. Еса-кова. М., 2021. 816 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. В.М. Лебедев. 14-е изд., перераб. и доп. М., 2014. 1359 с.
- Литвинов И. Некоторые вопросы уголовной ответственности за побег // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 5. С. 2-5.
- Малин П.М. Оставление осужденного в следственном изоляторе либо его перевод в следственный изолятор из исправительного учреждения в порядке статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в аспекте прогрессивной системы исполнения и отбывания лишения свободы // Уголовно-исполнительное право. 2020. Т. 15 (1-4), № 1. С. 41-50. https://doi/org/10.33463/2072-2427.2020.15(1 -4) 1.041 -050.
- Михеева С.В., Шиханов В.А. Субъекты правоотношений в аспекте обеспечения режима конвоирования // Вестник Самарского юридического института. 2018. № 2 (28). С. 68-72.
- Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Специфика совершения побегов лиц, содержащихся в следственных изоляторах, и способы их предупреждения // Современное право. 2021. № 7. С. 108-111. https://doi.org/10.25799/NI.2021.28.91.020.
- Чепик И.В. Проблемные вопросы привлечения к уголовной ответственности за побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3 (41). С. 192-196.
- Шеслер А.В. Уголовно-правовая характеристика побега из мест лишения свободы, совершенного по предварительному сговору группой лиц // Вестник Кузбасского института. 2017. № 2 (31). С. 103-108.