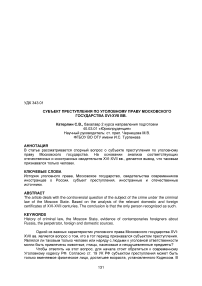Субъект преступления по уголовному праву московского государства XVI-XVII вв.
Автор: Катерлин С.В.
Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal
Рубрика: Общественно-гуманитарные науки
Статья в выпуске: 1 (8), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается спорный вопрос о субъекте преступления по уголовному праву Московского государства. На основании анализа соответствующих отечественных и иностранных свидетельств XVI-XVII вв., делается вывод, что таковым признавался только человек.
История уголовного права, московское государство, свидетельства современников иностранцев о России, субъект преступления, иностранные и отечественные источники
Короткий адрес: https://sciup.org/14769822
IDR: 14769822 | УДК: 343.01
Текст научной статьи Субъект преступления по уголовному праву московского государства XVI-XVII вв.
Одной из важных характеристик уголовного права Московского государства XVIXVII вв. является вопрос о том, кто в тот период признавался субъектом преступления. Являлся ли таковым только человек или наряду с людьми к уголовной ответственности могли быть привлечены животные, птицы, насекомые и неодушевленные предметы?
Чтобы ответить на этот вопрос, для начала стоит обратиться к современному Уголовному кодексу РФ. Согласно ст. 19 УК РФ субъектом преступления может быть только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного Кодексом. В соответствии со ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. За отдельные виды преступлений уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если оно во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ) [1].
Законодательное закрепление указанных положений имеет принципиальное значение для уголовного права, осуществления правосудия, обеспечения законности. Истории известны случаи, когда уголовному преследованию подвергались субъекты, не наделенные вышеперечисленными признаками. Так, в светских судах XIV и XV столетий нередко встречались случаи преследования животных, причинивших смерть человеку, в особенности быков и свиней, плативших жизнью, преимущественно через повешение, за свою ярость. Особую группу составляли случаи, в которых животное являлось не столько виновником, сколько соучастником. Например, повелевалось вместе со скотоложниками умерщвлять и оскотоложественных животных. Во Франции до середины XVIII столетия животные в подобных случаях подвергались сожжению. Прусское земское право 1795 г. определяло, что таких животных нужно убивать или изгонять из страны [2].
В научной литературе указано, что субъектами преступления, могли быть как отдельные лица, так и группы лиц [3]. Однако, в сочинениях современников-иностранцев о России XVI-XVII вв. можно встретить несколько указаний на то, что субъектом преступления признавались не только люди, но и животные, а также неодушевленные предметы. По словам австрийца Лизека, «за преступления судят не только людей, но и животных, и даже неодушевленные вещи». В качестве примеров привлечения к уголовной ответственности животных и неодушевленных предметов «иноземцы» приводят следующие случаи. По утверждению Лизека, «в доме одного Боярина ручной козел столкнул Боярского сына с лестницы; его высекли батогами и сослали в Сибирь; но как этот козел был любим целым семейством, то на пропитание положили ему по копейке в день. Другая особа порезалась ножом, и его хотели сослать в Сибирь; но серебряная рукоятка, превосходно отделанная, преклонила к нему милость: вместо Сибири, его заперли в сундук, и тем лишили возможности резать» [4].
Описывая город Можайск и расположенный в нем монастырь Св. Николая Чудотворца, «с образом его и деревянной статуей», поляк Немоевский замечает: «Говорят, что Иван Васильевич, когда ему пошло плохо с королем Стефаном приказал статую этого Чудотворца выволочь перед монастырь и бить палками, выговаривая ему: «Литве помогаешь» [5].
Англичанин Перри и швед Седерберг в своих заметках о России сообщают о происшествии с обезьяной английского дипломата, которую он привез с собой в Москву. По заявлению Перри, «обезьяна эта однажды сорвалась с привязи и вбежала в церковь, бывшую недалеко от того места, где жил Посланник; в этой церкви она сбросила с полки несколько образов святых (между Русскими существует обыкновение не вешать образа Святых, так как они считают это не довольно почетным, но ставить их на полку) [6].
По поводу этой случайности Посланнику представлена была жалоба, якобы обезьяна спущена была с привязи умышленно, чтобы нанести это оскорбление церкви, и сделано это было по дьявольскому наваждению, чтоб осквернить их святыню. Церковь была очищена посредством странного обряда, окропления святой водой, и по этому случаю были молебствия к Святым, а дьявола заклинали выйти из церкви. За это дело обезьяна была обвинена, и по особому Указу Патриарха, ее водили, как преступника, на показ по улицам, и потом предали смерти».
В изложении Седерберга инцидент с обезьяной выглядел так: «Одетой в лакейскую ливрею, удалось ей бежать и войти в одну растворенную церковь насупротив Посольскаго дома, где она взлезла на алтарь и стены, сорвала и разбила образа, и все, что ей попадалось. Церковный сторож, который, услыша шум, поспешил в церковь, видит обезьяну, запирает церковь и бежит к Патриярху, который, воспламенившись ревностью, спешит к Царю с рассказом о неприличном деянии Посольскаго конюха. За тем тотчас посылаются стрельцы (лучшие Русские воины, все равно, что янычаре у Турок) с алебардами, которые, увидав в церкви обезьяну, начали ее немилосердно бить. Разъяренная обезьяна вскакивает на того из них, который всего более ее бил, и так жестоко отделала стрельца, что его унесли замертво домой. Наконец овладели обезьяной, связали и бросили ее в темницу.
Народ полагал, что вся эта проделка была состряпана самим Посланником, и охотно отомстил бы ему, если б к его дому не была поставлена охранительная стража, тем более, что он полагал, что Посланник знается с злым духом, так как он возил с собою черта, которого нельзя было заставить говорить. Посланник предлагал вполне вознаградить за убытки, но это ни к чему не повело, так как Патриарх был очень раздражен. Вследствие сего несколько сильных стрельцов вывели обезьяну и расстреляли ее, после чего тотчас было объявлено всенародно, чтобы никто, под страхом смерти, не смел трогать особу Посланника» [6].
В русских документах ни один из названных случаев не упоминается, зато в них говорится о наказании церковного колокола г. Углича, в который ударили в набат в связи с таинственной смертью царевича Дмитрия. По приказанию Бориса Годунова его якобы сбросили со звонницы, избили плетьми, лишили уха, вырвали у него язык, после чего сосланные в Сибирь угличане должны были тащить «мятежный» колокол волоком до Тобольска. Местный воевода повелел сначала запереть колокол в приказной избе и сделать на нем надпись: «Первоссыльный неодушевленный с Углича». Затем колокол был повешен на колокольню церкви Всемилостивого Спаса, а оттуда перемещен на Софийскую соборную колокольню. В 1677 г. во время большого тобольского пожара «опальный» колокол «расплавился, раздался без остатка» [7].
Итак, в иностранных и отечественных источниках упоминаются пять случаев применения карательных мер к «преступникам», которые не являлись людьми. Можно ли, опираясь на эту цифру, делать вывод о том, что животные и неодушевленные предметы признавались в Московском государстве субъектами преступления? По нашему убеждению, такой вывод сделать нельзя по двум причинам. Во-первых, пять вышеуказанных случаев – это слишком незначительная цифра, чтобы на ее основе причислять животных и вещи к субъектам преступления. Это становится особенно очевидным при сравнении российских показателей с западноевропейскими. В «Хронологическом перечне отлучений от Церкви и преследований животных с IX по XIX века», являющемся приложением к исследованию американского историка Э.П. Эванса с характерным названием «Уголовное преследование и смертная казнь животных. Забытая история судебных процессов над животными в Европе», перечислено около 200 таких случаев. При этом их подавляющее большинство – порядка 150 – приходится как раз на период с XV по XVII в. Каких только животных и насекомых не увидишь в этом перечне! Свиньи, коровы, лошади, собаки, козлы, крысы, долгоносики, саранча и многие другие представители фауны на протяжении этого времени стабильно попадали в крепкие объятия европейской Фемиды, что нашло отражение в соответствующих процессуальных актах. Подтверждением того, «насколько эти тяжбы с животными были часты и представляли серьезный юридический интерес», может являться тот факт, что «некоторые юристы считали нужным составлять руководства по этого рода процессам, с подробным изложением процессуальных правил и указаний судебной практики».
Кроме того, перечень Э.П. Эванса не включает случаи «наказания» неодушевленных предметов, а они, несомненно, в Европе также были [8]. В частности, в Англии правовой обычай, по которому ответственность могла быть возложена на неодушевленные предметы, был отменен лишь в начале XVIII в. Согласно этому обычаю, например, колесо, причинившее смерть человеку, «отдавалось Богу», т.е. конфисковалось и продавалось в пользу бедных. При таком количестве привлеченных к ответственности не людей действительно можно утверждать, что в Европе животные, насекомые и неодушевленные предметы считались субъектами преступлений наравне с людьми. Применительно же к России с ее «жалкими» пятью случаями говорить об этом вряд ли правомерно.
Во-вторых, сами свидетельства об этих случаях, прямо скажем, не внушают доверия. Байки Лизека о загадочном боярине, додумавшемся держать «ручного козла» у себя в доме, и о «преступнике» – ноже, который должен был отправиться в Сибирь в силу русской традиции ссылать туда все предметы, служившие орудиями преступлений, лишены даже видимости правдоподобия. Сообщение Немоевского о том, что православный государь приказал высечь статую самого почитаемого христианского святого, – это, на наш взгляд, такая же пропагандистская ложь с целью демонизации Ивана Грозного, как, к примеру, россказни англичанина Горсея о том, что в результате опричного похода 1570 г. на Новгород, в котором тогда проживало от 15 до 30 тыс. человек, было убито 700 (семьсот) тыс. [4].
К тому же в достоверности слов поляка заставляет усомниться его фраза: «Говорят, что...», указывающая на то, что источником сведений для Немоевского служили слухи. Описанное Перри и Седербергом происшествие с обезьяной выглядит вполне реальным, но можно ли расценивать расстрел «злодейки» как уголовное наказание? Скорее всего, нет.
Казнь обезьяны, по нашему мнению, была не чем иным, как обычной полицейской мерой, применяемой к опасным животным, как например, отстрел бешеных собак. Участие же в этом деле патриарха и царя было обусловлено как экстраординарностью самого инцидента, так и тем, что в нем был замешан иностранный дипломат. Что касается «телесного наказания» и «ссылки» угличского колокола, то, как и во всей истории с гибелью царевича Дмитрия, здесь тоже далеко не все ясно. Поэтому если некоторые ученые рассказ о наказании «мятежного» колокола воспринимают как факт, то для других это не более чем легенда и затейливая молва, попавшая на страницы поздних летописей.
Таким образом, ни один из зафиксированных в иностранных сочинениях и русских документах случаев «наказания» животных и неодушевленных предметов не может считаться неопровержимым доказательством уголовного преследования не людей. А поскольку другие, бесспорные примеры привлечения животных и вещей к уголовной ответственности в источниках отсутствуют, то из этого можно заключить, что субъектом преступления в Московском государстве признавался исключительно человек.
Список литературы Субъект преступления по уголовному праву московского государства XVI-XVII вв.
- «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016)//СПС Консультант Плюс.
- Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 1. По изданию 1902 года. Allpravo.ru. -200Интернет-ресурс: http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum105/
- Исаев И.А. История государства и права России. Учебное пособие. Москва, Изд-во «Проспект», 2015. 797 с.
- Рожнов А.А. Субъект преступления по уголовному праву Московского государства XVI-XVII вв.//СПС Консультант Плюс.
- Охрана порядка. Тюрьмы. Славяне и российские этносы (VII век). Историко-аналитический портал http://www.lifeofpeople.info/themes/
- Д. Перри. Состояние России при нынешнем царе. 1716 год.//Электронный ресурс: http://istclub.ru/topic/638
- Ионина Н. «Наука. Образование. Ссыльный колокол. Электронный ресурс//http://rulibs.com/ru_zar/sci_history/ionina/2/j72.html
- Джером Горсей Записки о России. XVI-начало XVI в./пер. А.А. Севастьяновой. М.: изд-во МГУ, 1990. 289 с.