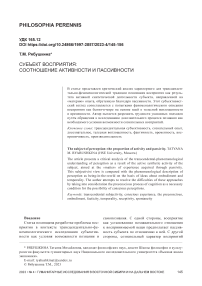Субъект восприятия: соотношение активности и пассивности
Автор: Рябушкина Т.М.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен критический анализ характерного для трансцендентально-феноменологической традиции понимания восприятия как результата активной синтетической деятельности субъекта, направленной на «материю» опыта, обретенную благодаря пассивности. Этот субъективистский взгляд сопоставляется с попытками феноменологического описания восприятия как бытия-в-мире на основе идей о телесной воплощенности и временности. Автор пытается разрешить трудности указанных подходов путем обращения к исследованию досознательного процесса познания как необходимого условия возможности сознательных восприятий.
Трансцендентальная субъективность, сознательный опыт, досознательное, телесная воплощенность, фактичность, временность, восприимчивость, производительность
Короткий адрес: https://sciup.org/170201879
IDR: 170201879 | УДК: 165.12 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-4/145-156
Текст научной статьи Субъект восприятия: соотношение активности и пассивности
Статья посвящена разработке проблемы восприятия в контексте трансцендентально-феноменологического исследования субъективности как условия возможности познания и самопознания. С одной стороны, восприятие как установление познавательного отношения к воспринимаемой вещи предполагает пассивность субъекта по отношению к ней. С другой стороны, сознательный характер восприятий предполагает их единство как принадлежащих мне, условием возможности которого в классическом (кантовском) трансцендентализме полагается синтетическая деятельность, активность субъекта восприятия. В противовес пониманию восприятия как продукта активного синтеза (такое понимание создает непроходимую пропасть между восприятием и воспринимаемой вещью) философы феноменологического направления предпринимают попытки осмыслить восприятие как такое единство активности и пассивности, при котором возможна «встреча с сущим». Ключевыми идеями на этом пути являются идея о пассивном синтезе, идея о пререфлексивности сознания, а также идея о телесной вопло-щенности субъекта восприятия. Цель данной статьи – на основе критического анализа указанных идей прояснить роли восприимчивости (пассивности) и производительности (активности) субъекта в формировании сознательного восприятия.
Восприятие как «конституирование»: активность и пассивность в сознании объекта и самосознании
Кант не придает решающего значения затруднению, состоящему в том, «каким образом субъект может внутренне созерцать самого себя», поскольку полагает, что «это затруднение испытывает всякая теория» [6, с. 85]. В результате самосознание оказывается неразрывно связанным с самовосприятием и характерной для него временностью. Очевидно, что в этом случае познающий обретает созерцание не самого себя, а лишь явления.
Э. Гуссерль, полагая возможность «эголо-гического самовосприятия» [4, с. 116], вслед за Кантом не придает значения связанной с этим полаганием принципиальной трудности, состоящей в том, что Я как условие опыта не подлежит объективации и не может стать объектом восприятия. По Гуссерлю, имманентная временная форма потока переживаний есть универсальная аподиктическая структура, в которой Я для себя самого предначертано как предмет опыта, как конкретное, существующее вместе с индивидуальным содержанием – переживаниями, способностями, диспозициями [3, с. 44]. Таким образом, Гуссерль, как и Кант, полагает, что опыт самого себя как познающего существует, причем в качестве временного опыта, тогда как в действительности нет оснований считать временной опыт опытом самого себя. Отказ от проблематизации возможности самовосприятия в конечном итоге приводит к отождествлению субъективности и временности: поскольку наличие самосознания как результата самоаффектации полагается в качестве само собой разумеющейся черты субъективности, исследование последней сводится к рассмотрению только таких процессов познания, которые предполагают наличие самосознания и, значит, сознательны, и временность – неотъемлемая характеристика содержаний сознательного опыта – принимается в качестве характеристики самого субъекта. Как следствие, восприятие и для Канта, и для Гуссерля может иметь только сознательный характер, и нельзя исключить сознание из восприятия предмета. Однако этот вывод относительно восприятия не правомерен, поскольку сделан на основе ложной предпосылки о возможности самообъективации, самовосприятия субъекта. Очевидно, что без сознания невозможно знание о предмете, но нет оснований утверждать, что результаты работы восприимчивости субъекта не могут быть несознательными. Напротив, именно с сознательными восприятиями связана существенная трудность: неясно, как они возможны, если сам воспринимающий не может быть дан самому себе ни в каком опыте, ни в каком восприятии.
В ранних работах Гуссерля «абсолютный квазивременной поток сознания» выступает как основа всякого конституирования, как «абсолютная субъективность» [5, с. 79]. Позже
Гуссерль обращается к исследованию темпо-ральности как разновидности «пассивного синтеза». Гуссерль отмечает, что каждый продукт активного конститутивного генезиса, в котором созидающую роль играет Я, в качестве низшей ступени необходимо предполагает некую «пассивность, формирующую предданность (vorgebende Passivitat), и, следуя произведенному в активности, мы наталкиваемся на конституирование в пассивном генезисе. То, что встречается нам в жизни, так сказать, в готовом виде, как просто существующая вещь (отвлекаясь от всех смысловых (geistig) характеристик, которые ее представляют в качестве молотка, стола, произведения искусства), дано в первоначальном модусе оно само в синтезе пассивного опыта. В качестве такового оно выступает как предданное по отношению к смысловой (geistige) активности с ее активным схватыванием» [3, с. 103]. В понятии пассивного синтеза Гуссерль стремится совместить парадоксальные характеристики восприятия – пассивность как открытость «самим вещам» и активность как синтетическую деятельность, являющуюся условием возможности всякого опыта, в том числе и сознания времени.
Исследование условий возможности темпорального синтеза требует продвижения в более глубокую по отношению к временному потоку сферу субъективности. Однако выхода за пределы сознаваемого, доступного для рефлексии гуссерлевский проект не допускает, поэтому темпоральный синтез относится Гуссерлем к первичной (примордиальной) пассивности [18, p. 482–483]. Вместе с тем понятие пассивного синтеза указывает на то, что конституирование объекта сознанием вовсе не предполагает в качестве необходимого условия сознание самого себя как мыслящего, конституирующего этот объект Я. Напротив, мы осознаем конституированное как «реальный предмет» лишь постольку, поскольку от нас скрыт процесс его конституирования. Это открывает перспективу феноменологического исследования сознания без Я – пререфлексивного сознания. Идея пререфлексивности позволяет избавиться от оставшегося без ответа вопроса о том, каким образом возможно сознание объекта, если оно предполагает сознание о Я, которое не может быть объективировано и схвачено в самовосприятии.
Однако утверждение пререфлексивности сознания не снимает вопрос о том, чем определяется сознательный характер восприятия объекта. Поскольку для феноменологического проекта в целом характерна убежденность в невозможности объяснения сознания (всякое объяснение предполагает существование сознания), большинство феноменологов полагает, что осознание опыта не является отдельным ментальным актом, а включено в сам опыт. Эту идею развивали Ф. Брентано [1], Ж.-П. Сартр [12], Д. Захави [25], Р. Геннаро [17] и др., однако убедительного ответа на вопрос о том, как именно сознание самого себя как воспринимающего встроено в сознание воспринимаемого объекта, получено не было [10]. Можно попытаться уйти от этого вопроса, утверждая, что самосознание невозможно вычленить, обнаружить в сознании объекта, поскольку свойство быть сознательным и принадлежать мне является неотъемлемым «внутренним» свойством любых ментальных состояний. Однако это равносильно признанию того, что происхождение сознания и самосознания непостижимо.
В противовес «одноуровневым» теориям сознания выдвигаются «теории высшего порядка», представляющие собой варианты по-лагания некоторого внутреннего схватывания, восприятия. Согласно теории мысли высшего порядка Д. Розенталя [21; 22; 23], сознательный характер ментального состояния объясняется наличием направленной на него мысли об этом состоянии, которая сама не осознается. Другая разновидность теории высшего порядка – теория внутреннего ощущения, в соответствии с которой осознание ментальных состояний происходит благодаря ощущению или восприятию этих состояний (Д. Армстронг [13], У. Ликан [20]).
Такого рода объяснения сознательного характера ментальных состояний подвергаются критике с различных позиций, в том числе и позиций экспериментальной науки (Дж. Серль [24], Д. Деннет [15], Ф. Дретске [16], Н. Блок [14] и др.). С нашей точки зрения, важны следующие аспекты критики теорий высшего порядка. Сознание первого порядка – предметное сознание – должно предполагать отношение к самому себе как познающему, воспринимающему, иначе никакая дополнительная к нему, отдельная от него мысль (или восприятие) не сделает его сознательным, оно останется принципиально недоступным для осознания. Восприятие того или иного восприятия представляет собой еще одно восприятие, в котором сам познающий, воспринимающий остается «за кадром». Кроме того, восприятие (или мысль) второго уровня может схватить лишь воспринятое (мыслимое), но не самого воспринимающего (мыслящего).
Итак, необходимо признать, что понятие о самоаффектации (способности субъекта воздействовать на самого себя и подвергаться воздействию), играющее существенную роль в трансцендентально-феноменологических концепциях, является непригодным для осмысления субъективности как условия возможности сознательных восприятий.
Восприятие как «бытие в мире»: время как основание активности и пассивности
Дальнейшая разработка проблемы восприятия как «выхода к самим вещам» состоит в преодолении гуссерлевской идеи конституирования. М. Мерло-Понти пишет: «Если бы восприятие было дано самому себе в “интроспекции” или являлось сознанием, конституирующим воспринимаемое, то оно должно было бы … по определению и принципиальным образом знать самое себя и обладать самим собой; в таком случае оно не могло бы открываться горизонтам и далям, то есть миру, который с самого начала для него есть просто тут и исходя из которого оно только и знает себя» [7, с. 37].
Мерло-Понти выступает с критикой положения о том, что мы можем иметь дело лишь с восприятием и наличие восприятия не означает существования воспринимаемой вещи: «Что-нибудь одно: или я не обладаю никакой достоверностью относительно собственно вещей, но тогда я тем более не могу быть уверенным в своем собственном восприятии, взятом даже в качестве простой мысли, поскольку даже в таком виде оно включает в себя утверждение о существовании вещи; или же я с достоверностью схватываю собственную мысль, но это предполагает, что я признаю и существования, на которые она направлена» [8, с. 476]. Вместе с тем восприятие указывает нам на неисчерпаемость мира мыслью, «…сознание не пропитывает реальность вплоть до ее самых потаенных сочленений» [8, с. 306]. Итак, согласно Мерло-Понти, «подлинное Cogito не определяет существования субъекта через его мышление о существовании, не обращает достоверность мира в достоверность мысли о мире», а «упраздняет любого рода идеализм, открывая меня как “бытие в мире”» [8, с. 12].
При осмыслении «бытия в мире» Мерло-Понти развивает гуссерлевскую идею о телесной воплощенности субъекта восприятия. По Гуссерлю, именно благодаря опыту собственной телесности к исходно-первичной сфере моего мира (имманентная трансцендентность) добавляется новый слой конституированного смысла – трансцендентность объективного (вторичная трансцендентность) [3, с. 160]. В «Идеях II» «феноменальное тело» рассматривается в качестве «медиума всякого восприятия» [19, p. 61].
Согласно Мерло-Понти, тело является «нашей живой связью с природой» [7, с. 43], оно представляет собой самосознание, погруженное в вещи, отличное от самопрозрачности мышления, которое может мыслить что бы то ни было, только преобразуя его в мыслимое. Видение – это не один из модусов мышления или наличного бытия «для себя», а способность быть вне самого себя, поэтому мое существование как воспринимающего есть акт, действие, т.е. переход от того, что я имею, к тому, на что нацеливаюсь, от того, что я есмь, к тому, чем намереваюсь быть [8, с. 485]. Мир – это не объект, а поле нашего опыта; «мы сами – не что иное, как взгляд на мир», и «самая скрытая пульсация нашего психофизического бытия возвещает о мире» [8, с. 515].
Перцептивный синтез мира, осуществляемый телом, есть темпоральный синтез: «мое тело увязывает воедино настоящее, прошлое и будущее, оно источает время, или, лучше сказать, оно становится тем местом в природе, где впервые события, вместо того чтобы сталкиваться друг с другом в бытии, создают вокруг настоящего двойной горизонт прошлого и будущего и получают историческую направленность» [8, с. 308]. Развертывание времени лежит в основании пространственного синтеза и синтеза объекта. Было бы неверно понимать время как существующее для субъекта, «бытие в мире» не предполагает разделение на «для себя» и «в себе». Я как субъект опыта есть не серия психических актов, не стоящее в центре Я, которое объединяет эти акты в синтетическом единстве, я есть уникальный опыт, который невозможно отделить от меня самого. Таким образом, я сам есть временность: «Мы не говорим, что время существует для кого-то… Мы говорим, что время есть некто, т.е. временные измерения, поскольку они непрерывно обращаются друг в друга и друг друга подтверждают, всегда лишь выявляют то, что неявно содержа- лось в каждом из них, и все вместе выражают единый взрыв, или единый импульс, – субъективность как таковую. Нужно понимать время как субъект и субъект – как время» [8, с. 534].
Следуя по пути, намеченному Кантом и Гуссерлем, Мерло-Понти отождествляет субъективность и временность. Он полагает, что это решит проблему самоаффектации, устранив зазор между аффицирующим и аффицируемым: «Если Я – это трансцендентальное Я Канта, мы никогда не поймем, как оно способно, в каком-либо случае, смешаться со своим следом во внутреннем чувстве и каким образом эмпирическое Я все-таки может быть Я. Но если субъект – это временность, тогда самополагание перестает быть противоречивым, поскольку оно точно выражает сущность живого времени. Время – это “аффектация себя самим собой”: то, что возбуждает – это время как напор и переход к будущему; то, что возбуждено – это время как развернутый ряд настоящих моментов; возбуждающее и возбужденное суть одно и то же, поскольку напор времени – это не что иное как переход от одного настоящего к другому. Этот эк-стаз, эта проекция неделимой способности в присутствующую для нее предельную точку и есть субъективность» [8, с. 538].
Темпоральность субъективности, по Мерло-Понти, объясняет характер восприятия, предполагающего, с одной стороны, пассивность, открытость воспринимаемому, а с другой – активность воспринимающего. Классический трансцендентализм стремился связать в восприятии пассивность в отношении трансцендентного и активность имманентного мышления. Однако эта попытка приводила к тому, что либо пассивность, либо активность оказывались характеристиками восприятия в целом. Действительно, если для «спасения» отношения познающего к иному, трансцендентному, полагать пассивность восприятия, то эта «пассивность, однажды впущенная в меня, испортит во мне все, как только я … должен буду объяснять, как я мыслю свои восприятия» [7, с. 66]. Я как воспринимающий оказываюсь во власти организации моих мыслей, чьи предпосылки скрыты от меня, во власти собственной ментальной конституции, которая определила восприятие, и для меня окажется невозможным овладеть основанием данного мне в готовом виде восприятия. Если же предполагать, что я исходно владею миром своих восприятий как синтезирующая их инстанция, то восприятие в целом окажется продуктом самодеятельности, и связь восприятия с воспринимаемым как таковым будет утеряна. Мерло-Понти стремится разрешить эту дилемму: «…Мы не собираемся противопоставлять внутреннему свету порядок вещей в себе, куда этот свет не мог бы проникать. … Речь идет о пересмотре взаимосвязанных понятий активного и пассивного таким образом, чтобы они не приводили нас к антиномии, с одной стороны, философии, которая учитывает бытие и истину, но не принимает во внимание мир, и, с другой стороны, философии, которая принимает во внимание мир, но лишает нас укорененности в бытии и истине» [7, с. 67].
В феноменологии Гуссерля черты активности и пассивности сочетались в понятии пассивного синтеза как основы конституирования объектов. Мерло-Понти предлагает иное решение проблемы соотношения активности и пассивности в восприятии, опираясь на понимание субъективности не как конституирующей инстанции, а как темпоральности: «Когда речь шла о пассивном синтезе, имелось в виду, что многообразие проникнуто нами и что, однако, не мы осуществляем его синтез. Но темпора-лизация, по самой своей природе, этим двум условиям отвечает» [8, с. 540]: я не могу считать себя автором времени, однако я не просто претерпеваю его течение как факт, но могу находить во времени самого себя, время дает мне средство для самопостижения и самореализации. Таким образом, «мы полностью активны и полностью пассивны, поскольку мы суть возникновение времени» [8, с. 541].
По Мерло-Понти, не наши познавательные способности (спонтанность и восприимчивость) определяют нашу временность, наоборот, «время – основание и мера нашей спонтанности» [8, с. 541]. «То, что называют пассивностью, не есть восприятие нами какой-то чуждой нам реальности и не каузальное воздействие на нас извне: это наше вовлечение, наше бытие в ситуации, до которого мы не существуем, которое мы все время возобновляем и которое конституитивно по отношению к нам. Спонтанность, “обретенная” раз и навсегда, которая “в силу этого обретения увековечивает себя в бытии”, – вот точное значение времени и точное значение субъективности. … Наше рождение … обосновывает разом и нашу активность, или индивидуальность, и нашу пассивность, или общность, эту внутреннюю слабину, которая все время мешает нам достичь полноты абсолютного индивида. Мы – это не активность, непостижимым образом соединенная с пассивностью, не автоматизм, превзойденный волей, не восприятие, превзойденное суждением, мы полностью активны и полностью пассивны, поскольку мы суть возникновение времени» [8, с. 540–541].
Проблема фактичности субъекта восприятия
Мерло-Понти стремится показать, что феноменологический подход преодолевает, с одной стороны, догматизм, для которого образ этого мира и само существование мира – лишь следствия необходимого бытия, а с другой – скептицизм, который сводит очевидность к кажимости. Скептик утверждает: «Все мои истины суть в конечном счете лишь очевидности для меня или для мышления, тождественного моему, они неотъемлемы от моей психофизиологической организации и от существования именно этого мира. Можно представить другие способы мышления, которые функционируют по другим правилам, и другие миры, равно возможные, как и этот» [8, с. 504]. В противовес ему феноменолог стремится понять субъективность как соприродность миру, показать изначаль-ность, основоположность наивного контакта с миром: «…Человек и мир могут быть поняты лишь исходя из их “фактичности” … мир всегда “уже тут”, до рефлексии, как некое неустранимое присутствие, и все ее усилия, следовательно, направлены на то, чтобы отыскать наивный контакт с миром, чтобы придать ему наконец философский статус» [8, с. 5].
Существование иных, отличных от нашего, миров обесценило бы наши восприятия, лишило бы их статуса знания, поэтому Мерло-Понти утверждает единственность мира как горизонта нашего познания: «Законы нашего мышления и наши очевидности, конечно же, являются фактическими, но они не отделимы от нас, они подразумеваются во всякой концепции бытия и возможного, каковая может у нас сложиться. … Если я пытаюсь вообразить марсиан, ангелов или божественное мышление, логика которого отличалась бы от логики моего мышления, необходимо, чтобы это марсианское, ангельское или божественное мышление фигурировало в моем универсуме, но не подрывало его. Мое мышление, мои очевидности не суть просто факты среди прочих фактов, но факт-ценность, который охватывает и обусловливает все возможное. Нет иного возможного мира в том смысле, в каком возможен мой» [8, с. 504–505].
По мнению Мерло-Понти, фактичность и даже случайность нашего мира не является угрозой рациональности, «прорехой в ткани необходимого бытия» [8, с. 506], поскольку такая радикальная, онтологическая случайность, в отличие от случайности внутримировой, онти-ческой, обосновывает нашу идею истины. «Истина же в том, что ни заблуждение, ни сомнение никогда не отрезают нас от истины, поскольку они окружены горизонтом мира, где телеология сознания побуждает нас искать их разрешение» [8, с. 506].
Однако Мерло-Понти не только утверждает мир как неопределенный горизонт познания, всегда уже имеющийся благодаря восприятию, но полагает определенный способ организации мира – временность. И если данность мира как невозделанного поля познания действительно не отрезает познающего от истины, то полага-ние временности как инварианта опыта мира может оказаться ограничением, отсекающим иные, невременные, способы мироустроения. Как показывает К. Мейясу, фактичность инвариантов представления, посредством которых нам дан мир (в отличие от внутримирной кон-тингентности вещей, чья возможность быть или не быть в этом мире не противоречит этим инвариантам), отсылает к сущностной невозможности установить, необходимы ли они или являются контингентными [9, с. 54]. Нет оснований считать временность необходимым условием опыта мира. «Фактичность заставляет нас … постичь “возможность” Совсем-Другого мира изнутри самого этого мира», и хотя «эта “возможность” не является положительным знанием о Совсем-Другом, и даже положительным знанием о наличии или возможном наличии Совсем-Другого» [9, с. 54]. Против мыс-лимости абсолютно иного выступает сильный корреляционизм, сторонником которого, по сути, является Мерло-Понти. Суть корреляци-онистской позиции состоит в том, что мир не может предшествовать моему сознанию мира, что всякий иной мир, какой я только могу себе вообразить, уже на одном этом основании становится миром для меня [7, с. 72]. Мейясу показывает, что корреляционизм противоречив, поскольку, с одной стороны, утверждает, что мы имеем дело только с «нашим» миром, а с другой стороны, отказывается признать различие между «для нас» и «в себе» реальным различием:
«Только благодаря тому, что мы можем мыслить абсолютно возможным, что “в-себе” будет иным, чем “для-нас”, корреляционистский аргумент может быть действенным» [9, с. 87].
Таким образом, утверждение фактичности субъективности противоречит утверждению о том, что мир, существующий для нас, есть единственный мир, и иных миров, отличных от временного мира, не существует. Субьектив-ность как временность оказывается лишь одним из возможных вариантов субъективности, и такое понимание субъективности превращает ее в особого рода сущее наряду с другими, т.е. возвращает от трансценденталистского понимания субъективности к догматическому.
Каковы основания считать временность, обнаруживаемую нами в качестве структуры сознательного опыта, условием возможности этого опыта? Можно ответить, что онтологические условия опыта, которые образуют «одностороннюю границу», определяющую любой опыт, не подлежат обоснованию, но могут быть лишь описаны. Отсутствие основания у онтологических условий неразрывно связано с моделью фактичности: условиями опыта признаются те или иные сознаваемые структуры, и дальнейшее продвижение в выяснении трансцендентальных условий представляется невозможным. Но не является ли такое ограничение субъективности сферой сознания следствием ухода от проблемы осмысления условий возможности сознательного характера представлений, от принципиальных трудностей, связанных с полаганием самоаффектации в качестве такого условия?
Активность и пассивность субъекта как условия возможности сознательного опыта
Во избежание фактичности и вытекающего из нее догматизма при построении теории восприятия следует воздержаться от необоснованных онтологических допущений как в отношении предмета, так и в отношении способа восприятия. Трансцендентальная теория восприятия должна быть, прежде всего, теоретико-познавательной концепцией: полагаемые ею характеристики субъективности должны представлять собой не те или иные онтологические структуры (как, например, временность), а познавательные способности, необходимые для существования сознательного опыта как отношения к иному (несубъективному). Очевидно, что в качестве необходимого условия отношения познающе- го к иному следует полагать восприимчивость. При этом не следует считать объектом восприятия вещи сознаваемого нами мира и утверждать восприятие в качестве функции нашей чувственно-телесной организации, включенной в каузальные отношения вещей этого мира, иначе будет допущена очевидная ошибка, суть которой удачно передает Мерло-Понти: «Поскольку восприятие дает нам веру в мир, в систему естественных фактов, строго связанную и непрерывную, мы поверили, что эта система может вобрать в себя все вещи, вплоть до восприятия, которое нас приобщило к этим вещам» [7, с. 43]. Воспринимаемое иное можно полагать только как неизвестное, не приписывая ему то или иное устройство, иначе окажется, что мы еще до построения теории познания полагаем себя имеющими знание о мире, и тогда в ее построении уже нет смысла.
Итак, избегая каких-либо онтологических допущений о характере восприимчивости субъекта познания к иному, будем утверждать, что она является познавательной способностью, благодаря которой субъекту «дается» многообразие не только элементов, но и связей, что не все связи, существующие для субъекта, конституируются сознанием, но есть и воспринятые связи, которые направляют активную работу сознания.
Но если я не являюсь активным конституирующим началом моих восприятий, то не окажутся ли они незамеченными мною, неосознанными? Действительно, хотя восприятие осуществляется субъектом, есть результат «работы» его познавательной способности – восприимчивости, пассивно действующий механизм восприятия сам по себе не обеспечивает его осознанность, включенность в единый опыт. Основания восприятия оказываются скрытыми от самого субъекта. Сама субъективность в качестве основания восприятия не может быть «высвечена» благодаря восприятию. Восприятие, которое не опосредовано некоторой независимо от него обретенной данностью самого себя как воспринимающего, с необходимостью будет досознательным. Таково первичное восприятие иного. В первичном восприятии иного отсутствует какая-либо данность самого воспринимающего, т.е. в нем самом нет никакого содержания, которое сделало бы возможным его осознание.
Каковы условия возможности сознательных восприятий? В сознательном восприятии, говоря словами Мерло-Понти, «нацеленность на некий трансцендентный предел и лицезрение самого себя, на него нацеливающегося, осознание того, что связано, и осознание того, что связывает, взаимосвязаны» [8, с. 508]. Иными словами, для возникновения сознательного восприятия необходима опосредованность восприятия данностью самого воспринимающего.
Проведенный выше анализ проблемы самовос-приятия показывает, что необходимо отказаться от полагания того, что познающий может быть дан самому себе в каком-либо восприятии. Сознательный опыт возможен лишь в том случае, если субъект, помимо восприимчивости, обладает спонтанностью (производительностью). Благодаря продуктивности – трансцендентальной способности воображения, действующей на досознательном уровне, субъектом может быть создан набросок познавательного инструмента. Собственная познавательная способность субъекта не может быть объективирована, дана субъекту. Данность субъекту познавательной способности – это данность наброска, и, не имея иной данности самого себя как познающего, субъект применяет для восприятия иного наброшенную познавательную способность как свою собственную. В отличие от восприятий, полученных субъектом при помощи собственной восприимчивости, восприятия, осуществляемые при помощи наброшенной восприимчивости, будут опосредованы данностью той субъективности, при помощи которой они получены, и, следовательно, будут иметь сознательный характер и составлять единое сознание. Индивидуальность сознаний определяется неповторимостью обусловливающих их набросков. Таким образом, активность познающего субъекта является необходимым условием возникновения сознательного опыта, но она играет свою роль не в восприятии вещей, а в набрасывании самого себя как познающего.
Но если сознательные восприятия опосредованы данностью обусловливающего их познавательного аппарата – наброска, то почему я как субъект не могу узнать в них свои собственные построения, не владею ими, не вижу с полной ясностью их зависимость от меня? Дело в том, что единство сознательных представлений, действительно имеющее место благодаря наброску, может быть ясно осознано лишь при адекватном осознании самого наброска. Но набросок создается воображением на досознательном уровне, и его осознание требует познавательной работы. Сознательное восприятие наброска может быть получено благодаря применению наброшенной познавательной способности как познавательного инструмента к самому наброску как объекту, и оно неизбежно будет отличаться от самого наброска. Как следствие, единство предметов сознательного опыта, их отношение к наброску, определяющему мое сознание, исходно дано мне лишь имплицитно, на досознательном уровне. Именно поэтому рефлексия о сознании обнаруживает в качестве основы опыта несвязанные «данные».
Итак, помимо первичных восприятий, которые остаются неосознанными, субъект может обладать вторым слоем восприятий той же реальности – восприятий сознательного уровня. Первый слой восприятий получен благодаря познавательной способности самого субъекта, которая остается скрытой от него самого; второй слой получен благодаря наброску познавательной способности, который как продукт воображения дан субъекту на досознательном уровне, и именно эта данность придает восприятиям сознательный характер. Досознательные и сознательные восприятия иного представляют собой результаты работы различных познавательных «инструментов» (в первом случае это восприимчивость самого субъекта, во втором – наброска), но оба слоя восприятий приобретаются именно благодаря пассивности и различным образом представляют в сфере субъективного многообразие элементов и связей воспринимаемой реальности. Слой «данных» об ином, полученный посредством наброска, содержит, помимо многообразия воспринятых конкретных связей, общую связь, которая определяет принадлежность этих данных единому сознанию. Эта связь обусловлена данностью наброшенной познавательной способности, которая представляет собой данность именно того познавательного инструмента, посредством которого получено восприятие. При этом единство «данных» сознания есть не результат синтеза, а результат опосредования этих данных единой познавательной способностью – восприимчивостью наброска, которая как познавательный инструмент дана субъекту на досознательном уровне.
Кроме того, предлагаемое в данной работе понимание восприятия предусматривает возможность установления познавательного отношения к иному, избегая как агностицизма в отношении иного, так и «вынесения его за скобки». Эта возможность открывается благодаря тому, что способность восприятия полагается в качестве пассивной способности, не превращающей восприятие в конструирование, а также благодаря тому, что, исходя из условий возможности сознательного опыта, субъект рассматривается как обладающий различными восприятиями одной и той же реальности – досознательным и сознательным, соотношение между которыми направляет процесс познания. Субъект испытывает чувство неудовольствия по отношению к содержаниям сознания, которые конфликтуют с чем-то несознаваемым, но присутствующим в сфере субъективного, и направляет свои познавательные усилия на устранение этого неудовольствия и тем самым на приведение сознательных данных в согласие с досознательными путем построения при помощи воображения новых связей на уровне сознания. Производительность, присущая наброску (вторичное воображение), является необходимым условием возможности процесса сознательного познания, формирующего связный сознательный опыт. Продукты воображения, уменьшающие дисгармонию сознательного и досознательного, сохраняются и включаются в сферу сознания. Познание иного возможно лишь на сложном пути гармонизации сознательного и досозна-тельного [11, с. 111–113].
Активная работа субъективности по построению сознательных связей, гармонирующих с досознательными «данными», ориентируется на результаты, полученные благодаря восприимчивости (пассивности). Таким образом, активность субъекта не разрушает отношения восприятия к иному, но обусловливает сознательный характер нашего опыта и возможность его преобразования в процессе сознательного творчества.
Предложенная модель восприятия избегает фактичности субъективности и при этом носит трансцендентальный характер, поскольку полагаемые ею способности субъекта – восприимчивость и спонтанность – представляют собой необходимые условия, при которых можно мыслить познание вообще.
Заключение
Характерное для классического трансцендентализма понимание восприятия как смешения активности и пассивности, при котором предметные связи формируются благодаря синтетической деятельности субъекта, приводит к агностицизму, недоступности самой воспринимаемой вещи. Попытки выйти к «самим вещам», представив феноменологическое описание субъекта восприятия как бытия-в-ми-ре на основе идей о телесной воплощенности и временности воспринимающего субъекта, также нельзя признать успешными, поскольку связанное с указанными идеями утверждение «фактичности» субъективности несовместимо с тематизацией ее трансцендентальности и является разновидностью догматизма.
Исследование показывает, что познание как отношение к иному может быть осмыслено только при условии полагания того, что связи предметного поля являются результатом восприимчивости, а не чистой самодеятельности, что активность субъекта по созданию связей направляется связями, обретенными благодаря пассивности. Вместе с тем «данность» познающего самому себе, являющаяся необходимым условием осознанности восприятия, не может быть результатом какого-либо восприятия, однако она может быть получена благодаря самодеятельности субъекта – созданию на досознатель-ном уровне при помощи трансцендентального воображения наброска субъективности. Будучи отличным от самого субъекта, набросок может выступать и в качестве объекта, и в качестве инструмента познания, и, таким образом, обусловливать возможность сознательного опыта и взаимосвязь сознаваемых предметов, их принадлежность одному и тому же сознанию.
Список литературы Субъект восприятия: соотношение активности и пассивности
- Брентано Ф. Избранные работы. М.: Дом интеллектуальной книги, 1996.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. 1. М.: Академический Проект, 2009.
- Гуссерль Э. Картезианские медитации. М.: Академический Проект, 2010.
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб.: Владимир Даль, 2004.
- Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 1. Феноменология внутреннего сознания времени. М.: Гнозис, 1994.
- Кант И. Сочинения: в 8-ми т. Т. 3. М.: Чоро, 1994.
- Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Минск: Логвинов, 2006.
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Наука, 1999.
- Мейясу К. После конечности: Эссе о необходимости контингентности. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2015.
- Рябушкина Т.М. Проблема обоснования пререфлексивного самосознания: возможно ли трансцендирование сознательного опыта? // Философские науки. 2015. № 6. С. 72–86.
- Рябушкина Т.М. Трансцендентально-феноменологический анализ сознания: восприимчивость и производительность субъекта как условия возможности опыта // Вопросы философии. 2023. № 6. С. 104–1 15.
- Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2004.
- Armstrong, D.M., 1980. What is consciousness? In: Armstrong, D.M., 1980. The nature of mind and other essays. St. Lucia: University of Queensland Press, pp. 55–67.
- Block, N., 2011. The higher order approach to consciousness is defunct. Analysis, Vol. 71, no. 3, pp. 419–431.
- Dennett, D.C., 1991. Consciousness explained. Boston: Little, Brown & Co.
- Dretske, F., 2006. Perception without awareness. In: Gendler, T.S. and Hawthorne, J. eds., 2006. Perceptual experience. Oxford: Clarendon Press, pp. 147–180.
- Gennaro, R.J., 2002. Jean-Paul Sartre and the HOT theory of consciousness. Canadian Journal of Philosophy, Vol. 32, no. 3, pp. 293–330.
- Husserl, E., 2001. Analyses concerning passive and active synthesis: lectures on transcendental logic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Husserl, E., 1989. Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy. Second book. Studies in the phenomenological constitution. Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers.
- Lycan, W.G., 2004. The superiority of HOP to HOT. In: Gennaro, R.J. ed., 2004. Higherorder theories of consciousness: an anthology. Amsterdam: John Benjamins, pp. 93–113.
- Rosenthal, D.M., 2010. How to think about mental qualities. Philosophical Issues, Vol. 20, no. 1, pp. 368–393.
- Rosenthal, D.M., 2012. Higher-order awareness, misrepresentation and function. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, Vol. 367, no. 1594, pp. 1424–1438.
- Rosenthal, D.M., 2004. Varieties of higherorder theory. In: Gennaro, R.J. ed., 2004. Higherorder theories of consciousness: an anthology. Amsterdam: John Benjamins, pp. 17–44.
- Searle, J.R., 1992. The rediscovery of the mind. Cambridge: MIT Press.
- Zahavi, D., 2006. Subjectivity and selfhood: investigating the first-person perspective. Cambridge: MIT Press.