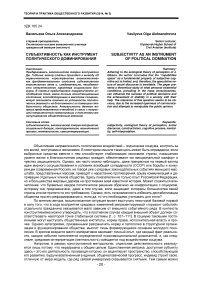Субъективность как инструмент политического доминирования
Автор: Васильева Ольга Александровна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 5, 2014 года.
Бесплатный доступ
Придерживаясь экологической теории восприятия Дж. Гибсона, автор статьи приходит к выводу об ограниченности «пространства возможностей» как фундаментального свойства субъективного когнитивного акта и, следовательно, неизбежности спекулятивного характера социального дискурса. В статье представлено теоретическое исследование того, какие личные экзистенциальные состояния, господствующие в массовом сознании, могут оказывать влияние на успешность политических решений и на достижение с их помощью стабильности общества. Актуальность данного вопроса представляется очевидной в связи с возросшей открытостью коммуникации и попытками манипулирования общественным мнением.
Субъективность, экологическая теория восприятия, социальный дискурс, конструктивизм, когнитивный процесс, ментальность, самоинтерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/14936760
IDR: 14936760 | УДК: 165.24
Текст научной статьи Субъективность как инструмент политического доминирования
Объективная направленность политических воздействий – подчинение социума, контроль за его волей, поступками и желаниями. В некотором смысле такая цель может быть оправданна, если выбранные средства вместе с тем способствуют стабилизации экономики страны, повышению уровня жизни и благосостоянию рядовых граждан, обеспечивают им эмоциональный комфорт и чувство защищенности. Однако, как часто можно наблюдать, даже прекрасные на первый взгляд идеи мирного сосуществования в условиях всеобщей солидарности (СССР) или борьбы и конкуренции (современная Россия), не говоря уже о рядовых законодательных событиях меньшего масштаба, представленных массам, приводят к нарастанию противоречий, срыву коммуникаций и депривации отдельных членов общества. Здесь показателен не только опыт Российской Федерации, но и большинства мировых держав на протяжении всей известной истории. Может сложиться впечатление, что буквально каждое политическое решение обречено на конфронтацию с социумом, которому оно предназначено, даже в том случае, если защищает интересы большинства своей страны или же принято по его требованию. Однако, есть ли возможность избежать дестабилизации общества при его реформировании и, если да, то что необходимо учитывать для этого?
По мнению автора, вышеописанная ситуация может выступать некоторой базовой нормой в силу того, что в ходе восприятия средовых изменений репрезентируемый «горизонт событий» отдельного гражданина оказывается мало зависим от внешнего событийного ряда. В контексте конструктивизма можно утверждать, что в противном случае каждый внешний объект должен соответствовать некоторой точке стабильной системы [1, с. 107–111]. В социуме таковыми постоянными могут выступать общественные институты, нормы права, исполнительная власть и прочее. Однако категориями, призванными разграничить норму и патологию в структурной организации и функционировании общества, мыслит лишь формирующееся сознание молодого поколения. В зрелом возрасте место императивов занимает личный опыт, где каждый факт реальности, каждое событие наполняется определенной психоэмоциональной доминантой, и, как следствие, средовая интерпретация (ментальность) смещается под воздействием социума.
Напротив, в рамках конструктивной методологии, отдельная действительность реализуется лишь потому, что неразрывна с общим целым. Единственная метрика, доступная субъекту здесь – это его деятельность, производя которую, он акцентирует пространство, способствующее его развитию. Будучи вовлеченным в единый, общечеловеческий прогресс, индивид строит свою, отличную от мира модель, где ряд связей универсума оказываются снятыми. Тем самым можно утверждать взаимозависимость ментальных установок от показателей локальной «воплощенно-сти» сознания, доступности образования, культурных ценностей, от степени участия в общественной жизни. В данных условиях для каждого субъекта вся поступающая информация будет разниться в актуальности, зависящей от несложного деления на «свое» и «чужое», духовно близкое и не имеющее значения. Складывается как бы отдельный черно-белый мир, в котором индивид имеет некую понятную ему, но упрощенную модель событий, смысл которых будет избираться им самостоятельно.
Другой вопрос: от чего собственно может зависеть когнитивная деятельность субъекта, если она не подчинена непосредственному внешнему воздействию? Источником субъективизма часто могут выступать ментальные особенности психики, такие, например, как образ врага. Последний часто использовался политиками для решения самых разных проблем и как ничто иное способствовал консолидации общества. Однако социальный дискурс часто возникает именно в моменты внешней безмятежности.
На наш взгляд, здесь интересна так называемая «теория экологического восприятия» американского психолога Дж. Гибсона, где он проводит мысль о том, что субъект может воспринять лишь те «возможности», из всех присущих внешним объектам, которые могут быть реализованы им при необходимости. Более того, автор уверен, что принятая для методологических целей формула «стимул-реакция» применительно к практике изучения субъективного «никогда не работала» и была существенной только для преодоления веры ученых в вечную душу [2, с. 95–96]. Поскольку видимый мир – это продукт не только зрительного восприятия, определяющийся всей совокупностью форм жизнедеятельности субъекта, он предлагает рассматривать все социальные взаимодействия как экологическую нишу когнитивного процесса.
В этой связи исследователь различает в структуре данного субъекту мира вещества, среды и поверхности, иерархически представленные как цели и ценности. Фундамент мира составляют все твердые вещества, однако их реальность динамична (возможно, например, «исчезновение» объекта из поля зрения или из настоящего в прошлое). Само пространство может быть заметно деформировано «очертаниями» ограничивающих его поверхностей. Далее среда имеет направления, пути для наблюдения-экспансии, так как доступность информации об окружающем в каждой ее точке может быть различной. Наконец, поверхности, в отличие от математических плоскостей в интерпретации субъекта имеют одну сторону, удерживая всю среду в определенном состоянии. В работах Дж. Гибсона можно отыскать различные пространственные события: «слепые зоны», «обрывы», «полосы безопасности» [3]. Однако представляется, что «градиент опасности» может прочитываться многозначно, поскольку он предполагает вместе с тем и положительный потенциал для большинства других существ как расширение их ареала и возможностей. Тем самым, субъектные миры не могут и не должны быть схожими уже в силу неравных обстоятельств действия, и принятые политические нормы не могут быть адекватными для всех.
Представленная здесь теория имеет еще одно немаловажное следствие в том, что каждая оценка окружающего мира и событий задается субъектом с привнесением на воспринимаемое целое тех свойств и качеств, которые доступны ему самому. Так, ментальность может задаваться как текущими событиями, так и уже давно минувшими, последовательно изменяя степень удовлетворенности наличным социальным бытием.
Отсюда можно утверждать, что социальный дискурс, вписанный в пространство интегрированных подсистем (наших ментальных установок и ожиданий) даже в условиях тотальной гласности и толерантности весьма проблематичен. Напротив, многие дискуссии ведутся с целью умножения интерпретаций и, как следствие, потери общего доверия к транслируемым фактам, к истине. Возможности открытой Internet-коммуникации также весьма неоднозначны в силу масштабности указанных явлений. К примеру, произвольное смешение условно выбранных ментальных установок, может приводить «к качественно новой концептуальной структуре, которая больше не зависит от исходных (ментальных) пространств и имеет собственные потенции к дальнейшему развитию» [4, с. 30]. Многие социальные мифы выстраиваются именно таким образом, в них ракурс отношения задается подавлением одних и акцентированием других признаков объекта или ситуации, либо их полным смешением. В научной литературе, подобные явления часто называют блендами. Их появление чревато утратой уникальности позиций субъектами коммуникации, нарастанием феноменов коллективного бессознательного, обезличиванию и безответственности.
Продолжая исследовать особенности когнитивного процесса, можно отметить, что социальная конфронтация может быть также следствием произвольного выбора объекта самоинтерпрета-ции. В структурах типа бленда, таковая случайность наиболее вероятна и может задаваться не только методом утаивания, но и посредством фильтрации информации для утверждения в ее самоочевидности. Каркас базовых понятий здесь абстрактный и зачастую фрагментарно удален, что с неизбежностью ведет к развертыванию спекуляций, расшатыванию социальных представлений [5].
Методов, позволяющих оказывать воздействия на общественную жизнь, бесчисленное множество, и автор не ставит в данной статье задачи какой-либо классификации их и разбора. Стоит отметить только, что цели устойчивого развития общества могут быть достигнуты лишь в случае согласования используемых агитационных тезисов с реальными объектами самоинтер-претации масс. Здесь речь может идти, к примеру, о типизированных жизненных обстоятельствах (ежедневные бытовые обязанности, условия и институты социализации, общежития, общепринятые представления о самореализации). То, что составляет контекст деятельности человека изо дня в день, не может оставить равнодушным, кроме того, данная сфера опыта насколько повсеместна, настолько и проблемна. Еще чаще в качестве объекта самоинтерпретации можно наблюдать ценностно-смысловой комплекс или усвоенный культурный архетип, в рамках которого человек позиционирует себя и удостоверяет действительность, живет с оглядкой на него. Так индивид впадает в крайность, ощущая недостаток материальных или духовных уровней са-моинтерпретации.
Чтобы понять, каким образом наша самоинтерпретация может быть осознанна и/или изменена в целях налаживания коммуникации и общественного спокойствия, обратимся к идеям психологов когнитивного направления, Х. Маркусу и Ш. Китаяме, выдвинувшим в центр дискуссий понятие self-construal. «Схема я» это своего рода конструкт, включающий понятие о себе и своей значимости в отдельно взятых исторических условиях. По мысли авторов, здесь можно выделить три характерных субъективности: так называемую «независимую», «взаимозависимую» и «мета-личностную» самоинтерпретации, где степень самоудовлетворенности субъекта-носителя зависит от значимости воспринимаемых обстоятельств и себя им лично [6, с. 362–363].
Так, в первом случае субъект воспринимает свою значимость априори, она вытекает уже из факта его существования и уникальности; каждый поступок он старается соотносить лишь со своими желаниями и занят тем, что больше наблюдает сам себя в мире. Для большего удобства назовем данный вид самоинтерпретации – выделенной. Вторая (иначе включенная) «схема я», полагается на исполнение субъектом определенной роли, легитимизированной данным обществом и позволяющей ее обладателю чувствовать свою значимость, цельность существования, определять себя через приоритеты и стандарты группы, к которой он принадлежит. Можно утверждать, что данная интерпретация осуществляется фактически несамостоятельно, «изнутри социальной среды», с оглядкой на общественное мнение. Наконец, третий вид или же интегрированная самоинтерпретация основана на трансляции усвоенных общекультурных ценностей при восприятии текущего события и рассмотрении одновременно с нескольких сторон, оценка его значимости в отношении общества и универсума.
Более того, успешное развитие выбранной модели самоинтерпретации «порождает <…> “чувство” (личности) по отношению к своей жизни» [7]. Как представляется, внимание к подобным переменным при долгосрочном политическом планировании должно необходимо вытекать даже в условиях немногочисленных значений стороны, в отношении которой предприняты реформы. Мы полагаем, что данное условие можно допускать с учетом непрерывных процессов интеграции, смены социального статуса и приоритетов, степени выраженности проблем в социуме.
Далее, сравнивая степень чувствования жизни в различных видах самоинтерпретации на основании «Шкалы экзистенции» А. Ланге, автор приходит к неоднозначным заключениям. С одной стороны, такие субъективно переживаемые трансцендентальные состояния как самодистанцирование, самотрансценденция, свобода и ответственность линейно распределены. Они свободно наблюдаются на уровне металичностных интерпретаций (в силу имеющегося здесь неограниченного набора мотиваций, ценностей и опыта), чуть меньше – на уровне независимых (где самодистанцирование касается не своих, но чужих проблем), и менее всего – на уровне межличностных (где доминирует ответственность). Однако уровень личного комфорта может быть достигнут в любой модели, если гражданин будет стремиться действовать сообразно выбранным нормам, а социум и управленческий аппарат поощрять его активность. В противном случае субъект будет терять самооценку, даже если никаких критических изменений в его статусе не произошло [8]. Отсюда можно полагать, что субъективность, формируемая в ходе социализации как некий набор норм и идеалов, используемых для построения жизненного событийного контекста, будучи задействована, ведет к последовательной смене оценок текущих и необходимых преобразований в обществе. В данном случае особо интересными видятся такие политические технологии, как: СМИ, ораторское мастерство политиков и символизация отдельных атрибутов социальной жизни. Последнее часто задействуется в случае отсутствия каких-либо существенных шагов в развитии, хотя автор полагает данный компонент необходимым актом всякого позитивно настроенного лидера.
Отдельно хотелось бы заметить, что допущение формирования металичностной интерпретации в массах представляется и наиболее удачной стратегией долгосрочного политического доминирования, так как в отличие от других видов субъективности подобная самоинтерпретация масс делает их более лояльными к существующему режиму власти, допуская неизменный уровень комфорта практически в любом социальном контексте.
Итак, в ходе представленного исследования автором было теоретически осмыслено решение, как и в каких условиях субъективность граждан может быть позитивной составляющей стратегического реформирования общества. Основываясь на модели Дж. Гибсона, можно высказать идею о неравновесности онтологии общества вне зависимости от политических режимов и узаконенных прав. Экология восприятия здесь формируется при столкновении с внешними индивиду объектами, но, вместе с тем, данное состояние весьма мобильно, так как не предполагает заданных объектов. Когнитивный процесс и созданная субъективность основываются на фундаментальной произвольности ментального, где многие объекты обезличиваются и «пропадают» при соотнесении себя и своих действий с избранными эталонами.
Отсюда дискретность видов социальной самоинтерпретации можно считать нормой при равных внешних средовых значениях, возможная оценка которых самими гражданами и их лояльность действующей власти будут соответствовать имеющимся у них самоинтерпретациям. В таких условиях практически любая цель, состоящая в стабилизации общества, вместе с тем может привести к слому коммуникации. Здесь долгосрочный успех реформ зависит и от степени реализации экзистенциальных состояний граждан, к которым приводит избранная политическая технология.
Тем самым, субъективность может выступать ресурсом политической деятельности. Можно допустить, что наибольшую лояльность в отношении решений власти будет проявлять именно тот слой общества, чья самоинтерпретация будет носить интегративный характер, так как лишь на уровне металичностных структур субъект может достигать существенной самотранс-ценденции, свободы и ответственности, дистанцируясь от неразрешимости социального контекста, способен быть благополучен и привлечен к коммуникации.
Ссылки:
-
1. Пржиленский В.И. Идея реальности и эпистемологический конструктивизм // Вопросы философии. 2010. № 11. С. 105–114.
-
2. Моисеев В.И. Субъективные саморазвивающиеся среды: некоторые подходы и модели» // Междисциплинарные проблемы средового подхода к инновационному развитию / под ред. В.Е. Лепского. М., 2011. С. 84–102.
-
3. Там же. С. 99–100.
-
4. Будаев Э.В. Становление когнитивной теории метафоры // Лингвокультурология. Екатеринбург, 2007. Вып. 1. С. 16–32. 5. Там же. С. 30.
-
6. Турчина О.Р. Самоинтерпретация и экзистенциальные особенности личности // Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 5. С. 361–372.
-
7. Там же. С. 364.
-
8. Там же. С. 365–370.