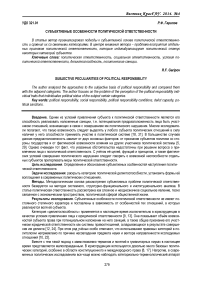Субъективные особенности политической ответственности
Автор: Гарипов Р.Ф.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Право и социальные отношения
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье автор проанализировал подходы к субъективной основе политической ответственности и сравнил их со смежными категориями. В центре внимания автора - проблема восприятия отдельных признаков политической ответственности, которые индивидуализируют политический статус некоторых категорий субъектов.
Политическая ответственность, социальная ответственность, условия политической ответственности, деликтоспособность, политические санкции
Короткий адрес: https://sciup.org/14083644
IDR: 14083644 | УДК: 321.01
Текст научной статьи Субъективные особенности политической ответственности
Категория «деликтоспособность» применяется в настоящее время исключительно в юриспруденции в качестве условия привлечения лица к юридической ответственности [9, 13]. Она показывает объём возможностей субъекта права при потенциальном наложении на него санкций, а также общее признание его участником юридической ответственности как системы правоотношений, складывающихся в результате совершения им деликта [12, 24]. При этом ряд учёных особо отмечают, что использование правовых категорий в политологии неприемлемо по причине несовпадения предмета науки и вектора направленности исследуемых отношений [10, 22].
Вместе с тем такой подход к заимствованию терминов и понятий в гуманитарных науках в настоящее время представляется малооправданным. В юриспруденции используется довольно много базовых политических категорий, особенно в области конституционного и международного права [8, 17]. Напротив, в современных политических исследованиях все чаще можно наблюдать категориально-терминологический аппарат юридических наук [11, 27]. Тем более в тех вопросах, в которых правовая доктрина ушла далеко вперёд. Одним из таких аспектов можно считать политическую ответственность, имеющую сегодня теоретикометодологическую базу юридической ответственности. К тому же, зачастую исследователи используют категории «политическая ответственность», «ответственность государства», «конституционная ответственность» как взаимозаменяющие [4, 15].
Учитывая значимость понятия деликтоспособности в структуре юридической ответственности, можно прийти к выводу, что подобное положение оно занимает и применительно к условиям наступления политической ответственности. Говоря о политическом деликте как основании возникновения ответственности, невозможно не обойтись без оценки личности субъекта нарушения как центрального элемента института ответственности в политических отношениях. В таком качестве политическая деликтоспособность отвечает на вопросы о возможности лица совершить подобный деликт, о степени его вовлечённости в нарушенный политический процесс, о способности осознания им значения и результатов своего поступка, а также о формальной предрасположенности к несению ответственности за совершённое деяние. Вместе с тем, имея внешнее сходство, данные категории обладают разным содержанием и признаками в правовых и политических отношениях с учетом статуса субъекта, его влиятельности в политической системе, распространения на него специальных норм и требований. Именно в данном аспекте следует отметить отличительные особенности политической деликтоспособности.
Прежде всего, необходимо определить зависимость деликтоспособности от политических норм, регламентирующих деятельность участников политической системы. Наличие в них указания на конкретных лиц является основным способом признания и нормативного «закрепления» субъектов политических отношений, создания им формального политического статуса с указанием на объём прав, свобод, обязанностей, включая обязанности негативного характера, среди которых центральным выступает потенциальная политическая ответственность за нарушение политического порядка. Аналогичным образом происходит установление деликтоспособности в правовой системе, при этом такой «нормативный» способ является единственно возможным средством закрепления данной способности за конкретным субъектом права [20, 23]. Действительно, субъектом правонарушения может быть лишь то лицо, которое признано в этом качестве законодательным образом. Напротив, субъектом политического деликта может быть как участник политической системы, признанный со стороны государства, так и фактический носитель политических возможностей, личность которого не отражена в политических нормах. Более того, как правило, подобные лица являются частыми нарушителями политического порядка в обществе, что заставляет государство, выступающее основным источником политических норм, со временем признавать статус данных субъектов с целью возложения на них повышенной ответственности за осуществляемую деятельность.
В качестве примера следует обратить внимание на проблему так называемой «внесистемной оппозиции», которая набирает обороты в европейской политической системе за последнее десятилетие. В нормативном ключе многие государства не признавали легитимность деятельности подобных общественных образований, однако фактически вынуждены вести диалог с ними, особенно в период избирательных кампаний и нарастания кризисных ситуаций в обществе [2, 14, 19]. В Российской Федерации увеличение оппозиционного движения в 2011–2012 гг. привело к вынужденному изменению законодательства, касающегося как деятельности политических партий, так и отдельных видов ответственности за нарушения общественного порядка. Несмотря на то, что оппозиционные силы так и не получили своего признания со стороны государства в качестве полноправных участников политических отношений, следует говорить о наличии у них отдельных элементов политической деликтоспособности, сложившихся фактически в результате влиятельности данных групп на политический процесс в стране.
Другой пример наличия фактического субъектного статуса на фоне отсутствия государственного признания отдельных лиц в политических отношениях можно привести, учитывая влиятельность криминальных структур на развитие политических процессов в определённом регионе или в масштабах всей страны [3, 6]. Вполне логично, что нормативного закрепления криминальных групп в качестве субъектов политических отношений никогда не произойдет, однако реальность зачастую демонстрирует достаточно сильное влияние преступных сообществ на политические решения и обстановку на определённой территории. Вместе с тем ряд учёных уверены, что представители криминального мира не имеют и не могут обладать политической деликтоспособностью, поскольку преступные объединения всегда находятся вне закона [7]. Однако стоит помнить, что правовые нормы и политические правила не следует воспринимать как тождественные категории. Политические отношения складываются не благодаря каким-то нормам и не только ради соответствия им. Следовательно, отрицать очевидные явления в современном политическом пространстве – заведомо неверный способ установления истины. Несмотря на нелегальный статус подобных субъектов, участие в политических отношениях для них всегда являлось нормой. Другой вопрос, в какой степени можно реализовать в отношении них политическую ответственность, остаётся действительно дискуссионным [25, 32]. Тем не менее в этом случае необходимо вести речь не о легальности субъектов политических отношений, а о барьерах к осуществлению политической ответственности. Зная о подобных субъективных особенностях, можно изначально установить специальные признаки деликтоспособности данных лиц, которые в целом дают представление об их возможной ответственности в определённых политических отношениях.
Руководствуясь принципом легальности или нелегальности субъектов политических отношений, следует изъять из политических отношений достаточно большую категорию фактических участников. Одним из ярких представителей такого формата являются непризнанные или «самопровозглашённые» государства. Вполне естественно, что с точки зрения законодательства той страны, на территории которой образовался и существует подобный субъект, он определённо будет расцениваться в нелегальном качестве [26, 30]. Однако никто не сомневается в наличии у такого территориального образования политических способностей, в том числе способности нести ответственность за деяния, нарушающие политический порядок.
Таким образом, политическая деликтоспособность не зависит от содержания политических норм и, следовательно, от факта признания её за определённым субъектом со стороны государства. Напротив, её фактическое наличие предполагает образование у определённого участника политических отношений субъектного статуса, поскольку напрямую затрагивает вопросы потенциальных негативных обязанностей. По той причине, что нести обязанности могут только субъекты отношений, можно заявить о необходимости делик-тоспособности как определяющего фактора приобретения лицом политического статуса.
Вместе с тем факт признания деликтоспособности присутствует в современных политических отношениях, но не через систему политических норм, а с помощью воли субъекта политики, вступающего в определённые связи с другими участниками. Такое предположение вытекает из парадоксальной сущности политической ответственности, которая не предполагает взаимных обязанностей в случае совершения политического деликта. В иных видах ответственности, как правило, наблюдается возникновение негативных обязанностей двух типов. В частности, для нарушителя ответственность выступает в виде обязанности претерпеть определённые меры отрицательного характера в качестве прямого результата его деликта. Напротив, в отношениях, возникающих по поводу ответственности, всегда присутствует другая сторона, которая возлагает на себя обязанность воздействовать на виновного, наложить на него те или иные санкции [1 , 21]. В юридической ответственности эту функцию зачастую выполняет государство, в экономической – хозяйствующие субъекты, в социальной – само общество. Что касается структуры политической ответственности, достаточно сложно определить субъекта, обязанного реализовать её в отношении нарушителя. Ряд исследователей полагают, что в аналогии с юридической ответственностью эту миссию должно выполнять государство как регулятор политических отношений [16, 28]. Однако в этой связи следует отметить, что в случае политических деликтов государство в большей степени является объектом, а не субъектом отношений политической ответственности, поскольку именно достижение и воздействие на государственную власть остаются основной целью деятельности политических субъектов. В то же время не исключено, что именно государство должно выполнять в определённых сферах функцию лица, привлекающего к политической ответственности другого участника отношений.
Тем не менее фактически возложение на участников политической системы специальной ответственности не является в настоящее время безусловной государственной обязанностью, вследствие чего сама политическая ответственность индивидуально к каждому конкретному субъекту приобретает ситуативный, избирательный характер. Это позволяет сделать вывод об отсутствии принципа неотъемлемости ответственности в политических отношениях, потому что ряд политических действий, направленных на вполне конкретный положительный результат, может изначально носить характер нарушения, но не иметь негативных последствий даже в отношениях с государством. Неудачно проведённая реформа вовсе не означает обязательную отставку правительства или снятие с должности ответственного министра. Закон, принятый вопреки предпочтениям большинства граждан, не влечет автоматический роспуск палаты парламента. Низкий результат на выборах вследствие слабоактивной работы членов партии не может рассматриваться как основание непременного лишения их партийного членства.
Выводы. Политическая деликтоспособность не может иметь постоянный характер, а её объём зависит от особенностей тех отношений, в которых принимает участие конкретный субъект. В силу возможностей одного участника политических отношений зависит степень и сила ответственности другого. Следовательно, у субъекта политики деликтоспособность всегда находится в динамичном состоянии, имея разное содержание в соответствии с субъективными и объективными условиями того вида отношений, в которых она может быть реализована. При этом в ряде случаев деликтоспособность может вообще не распространяться на по- литические деликты своего носителя, что проецируется на отсутствие политической ответственности при определённых обстоятельствах (например, в условиях экономического кризиса, наличия иммунитета, авторитета, значимости отдельных лиц для политического процесса).