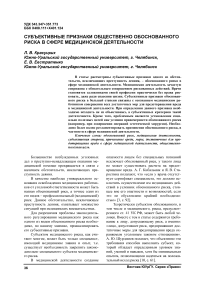Субъективные признаки общественно обоснованного риска в сфере медицинской деятельности
Автор: Красуцких Лидия Васильевна, Евстратенко Елена Владимировна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Статья в выпуске: 3 т.14, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены субъективные признаки одного из обстоятельств, исключающих преступность деяния, - обоснованного риска в сфере медицинской деятельности. Медицинская деятельность зачастую сопряжена с обязательным совершением рискованных действий. Врачи становятся заложниками своей профессии практически без права рисковать, даже ради спасения жизни. Субъективные признаки обоснованного риска в большей степени связаны с осознанием медицинским работником совершения всех достаточных мер для предотвращения вреда в медицинской деятельности. При определении данного признака необходимо исходить не из объективных, а субъективных критериев такой достаточности. Кроме того, проблемным является установление социально полезных целей как условия правомерности обоснованного риска (например, при совершении операций эстетической хирургии). Необходимо более полно регламентировать применение обоснованного риска, в частности в сфере медицинской деятельности.
Обоснованный риск, медицинская деятельность, субъективная сторона, причинение вреда, меры, достаточные для предотвращения вреда в сфере медицинской деятельности, общественно-полезная цель
Короткий адрес: https://sciup.org/147149932
IDR: 147149932 | УДК: 343.347+351.773
Текст научной статьи Субъективные признаки общественно обоснованного риска в сфере медицинской деятельности
Большинство возбужденных уголовных дел о преступно-ненадлежащем оказании медицинской помощи прекращается в связи с наличием обстоятельств, исключающих преступность деяния.
В качестве наиболее универсального основания освобождения медицинских работников от уголовной ответственности может быть назван обоснованный риск, а точнее один из его видов – профессиональный (медицинский) риск. Данное обстоятельство, исключающее преступность деяния, охватывает множество ситуаций при медицинских вмешательствах.
Для разрешения проблемы законодательного регулирования медицинского риска как одного из видов обоснованного риска необходимо, по нашему мнению, проанализировать его субъективные признаки.
Субъектом медицинского риска, как считают многие, может быть только специалист, имеющий медицинские знания и опыт, т.е. существует необходимость закрепить законодательно специального субъекта медицинского риска.
В медицинской деятельности создание опасности лицом без специальных познаний исключает обоснованный риск, у такого лица не может существовать расчета на предотвращение вреда. А. Г. Кибальник и Я. В. Старостина полагают, что «если у врача отсутствует сертификат специалиста, это должно исключить осуществление им медицинских действий в условиях обоснованного риска, стоящее вне его опытности и возможностей, если это не обусловлено крайней необходимостью» [3, с. 92].
Теоретически субъектом обоснованного, в том числе и медицинского, риска, предусмотренного ст. 41 УК РФ, может быть любой человек. Вместе с тем в статье содержится требование к лицу, допускающему риск, а именно: «лицо, допустившее риск, предпринявшее достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом отношениям». А. Ю. Шурдимов полагает, что объективно эти требования способен выполнить субъект, который обладает определенным уровнем знаний, умений и навыков, хотя бы минимальным опытом, позволяющими надеяться на положительный исход риска [10, с. 61].
Таким образом, важна не профессиональная принадлежность субъекта, а наличие у него соответствующих опыта и знаний.
В. В. Бабурин на основании вышесказанного предлагает к признакам, характеризующим субъект обоснованного риска, отнести физическое лицо, вменяемость, достижение возраста, необходимого для овладения специальными знаниями и умениями в конкретной сфере рискованной деятельности, а также фактическое наличие знаний, умений, навыков и опыта в соответствующей сфере риска. Как видно, это является характеристикой специального субъекта. Н. В. Павлов по этому поводу отмечает, что применительно к рискованной медицинской деятельности врач должен характеризоваться высоким уровнем компетентности и профессионализма [1, с. 143].
-
А. В. Серова считает, что субъект профессионального риска специальный, в данном случае – врачи и средний медицинский персонал, которые выполняют обязанности по лечению граждан [8, с. 89].
Компетентность и профессионализм врача определяют и такой субъективный признак обоснованного риска, как «принятие достаточных мер для предотвращения вреда правоохраняемым интересам» – это осознание лицом вероятной возможности и размера вредных последствий, принятие всех необходимых мер к тому, чтобы вред не наступил или, по крайней мере, был минимальным [2, с. 47].
Некоторые авторы игнорируя объективные признаки, утверждают, что это условие достаточности принятых мер основано только на субъективных возможностях лица, допускающего риск [5, с. 17]. Исходя из этого, риск должен быть признан обоснованным, если причинившее вред лицо считало принятые им меры достаточными для предотвращения вреда, пусть объективно, т.е. исходя из здравого смысла, достаточными они не были – вред оказался причинен.
Интересным представляется факт осознания именно достаточности мер, вероятно, фактическое наступление вреда свидетельствует о том, что предпринятые меры не были достаточными, тогда как ситуация риска характерна тем, что при всех принятых мерах всегда сохраняется возможность причинения вреда правоохраняемым интересам, поэтому предусмотреть все необходимые меры, исключающее преступление, невозможно [2, с. 37].
-
Н. А. Лопашенко полагает, что принять все возможные для предотвращения вреда меры – невозможно [6, с. 371].
В толковом словаре русского языка риск характеризуется как: 1) возможность опасности, неудачи; 2) действие наудачу в надежде на счастливый исход [4, с. 679].
Достаточно сложным, по мнению А. В. Савинова, с юридической точки зрения вопросом, затрагивающим медицинский аспект, является проблема трансплантации органов. В настоящее время она законодательно регламентирована Законом РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» [7]. Трансплантация органов и (или) тканей допускается исключительно с согласия живого донора и, как правило, с согласия реципиента.
Формально при трансплантации органов врач причиняет вред здоровью человека. Рассмотреть указанную ситуацию как обоснованный риск не представляется возможным, скорее, это крайняя необходимость.
Это заставляет вновь обратиться к необходимости введения нормы о согласии потерпевшего на причинение вреда, как самостоятельном обстоятельстве, исключающем преступность деяния.
Если рассмотреть субъективные признаки некоторых операций эстетической хирургии (подтяжка овала лица, увеличение молочных желез, липосакция и т.п.), то субъект должен осознавать не только достаточность предпринятых им мер по предотвращению вреда, но и общественно полезную цель. Но в связи с тем, что опасности для жизни и здоровья пациента при таких операциях нет, риск никогда не будет признан обоснованным.
А. В. Савинов считает, что следует тщательно проработать содержание условий правомерности причинения вреда при указанных обстоятельствах, а также вопросы уголовной ответственности медицинских работников за вред, причиненный в результате осуществления эстетической медицинской практики, и с этим трудно не согласиться [7].
В медицинской деятельности содержание психического отношения рискующего субъекта к своему, как ему кажется, правомерному поведению характеризуется очень сложно, так как субъект определяет психическое создание ситуации риска.
Но в профессиональной медицинской деятельности на правила обоснованного риска можно ссылаться практически всегда, потому что ни одно вмешательство врача не свободно от угрозы наступления вредных последствий, иногда только ценой риска такое вмешательство может быть осуществлено.
В данном случае правильно определил признаки субъективной стороны медицинского обоснованного риска В. В. Бабурин: «психическое отношение к совершаемому деянию, выражающееся в признании и следовании нормам и правилам предосторожности и риска, существующим в медицинской деятельности; мотив, цель и эмоции, которые сопровождают медицинскую деятельность» [1, с. 147].
Вышеназванные признаки в полной мере подтверждают выводы о том, что врач осознает общественно полезный характер своей медицинской деятельности, предвидит последствия своего рискованного поведения, а именно общественно полезный медицинский результат и также возможное наступление конкретного побочного вреда. При этом врач не желает наступления вреда, так как обоснованно рассчитывает на его предотвращение.
Проблемы и сложности психических процессов, которые определяют отношение врача к его рискованным действиям, обусловлены тем, что в медицинской деятельности в зависимости от ситуации существует два вида риска: вынужденный и свободный риск, последний имеет место быть при проведении научных медицинских экспериментов, субъект осознает необходимость и очевидность риска. Очевидность риска определяется его доступностью, т.е. субъект в данном случае осознает наличие двух критериев действительности риска и его правомерность. К примеру, в Нюрнбергском кодексе регламентирована правомерность медицинского эксперимента [9, с. 89]. В вынужденном риске основной проблемой осознания является проблема необходимости осуществления действий в ситуации риска.
Ситуация риска – это субъективное восприятие врачом грозящей опасности. Так, в апреле 2014 года Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело по иску Екатерины С. 1983 года рождения к муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения, куда она обратилась за консультацией. Врач по результатам УЗИ определил, что девушке требуется хирургическое вмешательство, и в направлении на операцию поставил диагноз BL – рак. Без проведения пункции и диагностики природы узла С. была проведена операция, в ходе которой вместо удаления зоба, то есть части щитовидной железы, была удалена щитовидная железа в полном объеме. Хирург без получения гистологических заключений поставил диагноз – папиллярный рак IV степени – и назначил в качестве лечения курс радиойод-терапии. Впоследствии было получено заключение экспертов о том, что в ткани девушки раковых клеток не обнаружено. Таким образом, злокачественной опухоли на щитовидной железе не было, требовалось лишь удаление зоба. Вероятно, цель врача была общественно полезной, спасение жизни пациента, но и цель – это субъективный образ результата, к которому стремится лицо. Налицо случай расхождения между целью и результатом. При этом противоречии между целью и результатом возникает необходимость дать общую оценку всему поступку: является ли он правомерным или противоправным? Какова в зависимости от этого должна быть реакция общества и государства на данный поступок, влечет ли он ответственность или должен поощряться? [7]
Анализируя правоприменительную практику, мы пришли к выводу, что чаще всего, когда имеются признаки обоснованного риска, действия квалифицируют и оценивают по признакам крайней необходимости. Это подтверждает наши выводы о том, что и ст. 41 УК РФ требует коррекции, и правоприменитель пока не способен правильно оценить такое обстоятельство, исключающее преступность деяния, как обоснованный риск.
Таким образом, субъективные признаки состава правомерного причинения вреда при правомерном рискованном поведении в медицинской деятельности имеют исключительное значение для разработки основ правового регулирования рискованного поведения в медицине, что исключило бы осуществление медицинских исследований и экспериментов в Российской Федерации без адекватной правовой базы, в противном случае медицинские работники будут превращены в потенциальных преступников, так как они по характеру своей деятельности вынуждены причинять вред либо здоровью, либо жизни.
Список литературы Субъективные признаки общественно обоснованного риска в сфере медицинской деятельности
- Бабурин, В. В. Концепция риска в уголовном праве: монография/В. В. Бабурин. -Омск: Омская академия МВД России, 2008. -59 с.
- Кадников, Н. Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: учебное пособие/Н. Г. Кадников. -М.: Бизнес Ченел интернэшнл Лтд., 1998. -47 c.
- Кибальник, А. Г. Актуальные проблемы уголовной ответственности медицинских работников: монография/А. Г. Кибальник, Я. В. Старостина. -М.: Илекса, 2008. -92 с.
- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка/С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. -М., 2005. -679 с.
- Орешкина, Т. Ю. Обоснованный риск в системе обстоятельств, исключающих преступность деяния/Т. Ю. Орешкина//Уголовное право. -1999. -№ 1. -С. 17-24.
- Российское уголовное право: в 2 т./под ред. А. И. Рарога. -М.: Профобразование, 2001. -Т. 1. -С. 371.
- Савинов, А. В. Причинение вреда с согласия лица или по его просьбе/А. В. Савинов//СПС «КонсультантПлюс».
- Серова, А. В. Профессиональный риск медицинских работников как вид обоснованного риска: автореферат дис.. канд. юрид. наук/А. В. Серова. -Екатеринбург, 1999. -22 с.
- Шаргородский, М. Д. Научный прогресс и уголовное право/М. Д. Шаргородский//Советское государство и право. -1969. -№ 12. -С. 89.
- Шурдумов, А. Ю. Обоснованный риск/А. В. Шурдуманов//Уголовное право. -2002. -№ 3. -С. 60-62.