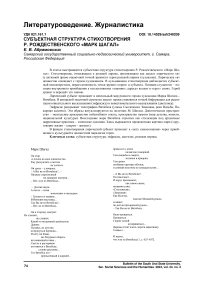Субъектная структура стихотворения Р. Рождественского «Марк Шагал»
Автор: Абрамовских Е.В.
Рубрика: Литературоведение. Журналистика
Статья в выпуске: 2 т.24, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье выстраивается субъектная структура стихотворения Р. Рождественского «Марк Шагал». Стихотворение, относящееся к ролевой лирике, организовано как диалог лирического «я» (с активной прямо оценочной точкой зрения) и героя ролевой лирики (художник). Лирическое «я» ценностно совпадает с героем-художником. В кульминации стихотворения наблюдается субъектный неосинкретизм, нерасчлененность точки зрения «героя» и субъекта. Позиция слушателя - позиция внутреннего приобщения к коллективному «знанию», адресат входит в «круг» своих. Герой хранит и передаёт это знание.Лирический субъект проникает в ментальный мир родного города художника Марка Шагала - Витебска. В авторской текстовой стратегии диалог героев становится точкой бифуркации для реализации описательного высказывания (экфрасиса) и повествовательного высказывания (диегезиса).Экфрасис раскрывает топографию Витебска (улицы Смоленская, Замковая, река Видьба, Пожарная каланча). Эти образы визуализируются на полотнах М. Шагала. Диегетическое пространство - ментальное пространство событийного опыта, пространство памяти (мир детства, юности, национальной культуры). Воссоздание мира Витебска строится как стилизация под архаичные нарративные практики - эпические сказания. Здесь выражается прецедентная картина мира («круговорот жизни - смерти - жизни»).В финале стихотворения лирический субъект приходит к «акту самосознания» через приобщение к культурной и ценностной парадигме героя.
Субъектная структура, экфрасис, диегезис, ролевая лирика
Короткий адрес: https://sciup.org/147243249
IDR: 147243249 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.14529/ssh240209
Текст научной статьи Субъектная структура стихотворения Р. Рождественского «Марк Шагал»
Субъектная организация стихотворения Р. Рождественского строится как диалог лирического «я» (с активной прямо оценочной точкой зрения) и героя ролевой лирики (художник). Геройная ипостась субъекта очевидна и раскрывается уже в заглавии («Марк Шагал»), являющемся ключом к прочтению текста. Герой наделен личной и творческой «биографией». Анализ субъектной структуры стихотворения Р. Рождественского позволит глубже понять ценностное ядро текста.
Обзор литературы
Стихотворение Р. Рождественского «Марк Шагал» рассматривается в контексте творчества художника (интересны работы Т. Е. Автухович [2], В. Я. Малкиной [3]). Безусловно, эта доминантная исследовательская стратегия позволяет выстроить экфрастическую поэтику и показать особенности рецепции творчества Марка Шагала. Наряду со стихотворением Р. Рождественского исследователи приводят такие тексты, как «Царкосельская ода» А. Ахматовой, «Pictoris confessio (Исповедь художника)» (1951) С. Петрова, «Холодеет душа и близится сумрак…» (1965) И. Чиннова, «Васильки Шагала» А. Вознесенского, «После выставки» (1983) Ю. Одарченко, «Майская ночь в лесу» (1988) С. Липкина, «Марк Захарович Шагал...» В. Егорова, «На одной из картин Шагала», «На могиле Шагала» и «Марк Шагал» А. Городницкого, и «Шагал по городу Шагал…» А. Орлова (Орлуши).
Методы исследования
В теоретическом основании данной работы лежит концепция С. Н. Бройтмана о субъектных структурах в лирике: «Под лирическим “я” понимают не биографическое “я” поэта, а ту форму или тот художественный образ, который он создает из своей эмпирической личности » [4, с. 255– 256]. Рассматривая ролевую лирику, С. Н. Бройт-ман указывает, что «…в ролевых стихотворениях всегда присутствуют два внутренне связных субъекта, хотя граница между ними может колебаться от предельного различия до предельной неразличимости. Поэтому в одних случаях героя можно назвать почти, но именно «почти», отдельным от автора персонажем, а в других – авторской «маской» [5, с. 314].
Результаты и дискуссия
В авторской текстовой стратегии диалог героев становится точкой бифуркации для реализации описательного высказывания (экфрасиса) и повествовательного высказывания (диегезиса).
Экфрасис раскрывает топографию Витебска (улицы Смоленская, Замковая, река Видьба, Пожарная каланча). Эти образы визуализируются на полотнах М. Шагала различных периодов творчества («Понюшка табаку» (1912), «Продавец скота» (1912), «Рождение» (1912), «Скрипач» (1912), «Над Витебском» (1915), «Окно. Витебск» (1908), «Вид из окна.
Витебск» (1908), «Суббота» (1909), «Семья или материнство» (1909), «Святой кучер» (1911)).
Диегетическое пространство реализуется как ментальное пространство событийного опыта, пространство памяти (мир детства, юности, период становления, мир национальной культуры).
В некоторых фрагментах текста лирическое «я» ценностно совпадает с героем-художником, а в некоторых проблематизируется собственная идентичность. Углубление и переосмысление событийного, ментального, культурного опыта «другого» и поиск собственной идентичности составляют лирический сюжет. Развитие сюжета изображается от скупых ремарок до развёрнутого воссоздания прошлого героя.
Композиционно части стихотворения обозначены риторическим вопросом «А Вы не из Витебска?», трижды повторенным в тексте. Четвёртый раз уже не вопрос, а констатация: «– Так Вы не из Витебска...»
Т. Н. Колокольцева, анализируя «текстообразующий потенциал диалогичности» в лирике А. Вознесенского и Р. Рождественского, относит «риторическое обращение, риторический вопрос, риторическое восклицание, вопросно-ответные структуры» [6, с. 72] к фигурам диалогизма и определяет их «важную роль в построении лирического произведения в целом» [6, с. 72].
Стихотворение Р. Рождественского строится как постоянное переключение точек зрения и речевых регистров: точка зрения лирического субъекта, точка зрения художника, «слово» лирического субъекта и «слово» художника, что создаёт сложный диалог героев. С. Н. Бройтман определял эту особенность как «игру точек зрения голосов и ценностных интенций» [5, с. 320].
«Он стар», «он похож на свое одиночество», «ему рассуждать о погоде не хочется» – оценка героя дана с точки зрения лирического «я». Герой не тратит время на пустые разговоры, проникает в суть вещей («сразу с вопроса»), заинтересован встречей за границей – далеко от родины, с человеком из «своего» мира.
Реакцией на слова «Нет, я не из Витебска» становится ремарка «Долгая пауза», за которой угадывается сожаление, разочарование. В первой части при ответе на вопрос использовано местоимение « я »: «Нет, я не из Витебска». Это «я» еще выделено как самостоятельное сознание, отличное от героя.
Во второй части слово доверено герою, который оценивает ситуацию здесь и сейчас: «тружусь и хвораю». Затем упоминается другое пространство, «чужое»: Венеция («в Венеции выставка»), Канны, Лазурный берег. С внешней стороны – это новый ментальный статус – слава, признание, востребованность. Но исходя из внутреннего мира героя – одиночество.
Во второй раз герой задаёт вопрос с частицей «так», чувствуется досада: «Так Вы не из Витебска?» Лирический субъект отвечает – «нет, не из Витебска», «я» в этом случае уже не выделяется, как будто сам лирический субъект не уверен до конца, как будто кто-то другой не из Витебска.
Воспоминания героя выстраиваются лирическим субъектом – «тот Витебск его» («тот», которого уже нет), «он тянется к Витебску, словно растение» (тянуться к небу, прорасти корнями).
Сам герой уходит в свои воспоминания, ментально изолируется. Лексический повтор «не слышит, не слышит» указывает на оторванность от ситуации «здесь и сейчас»: «в сторону смотрит», «какой-то нездешней далёкостью дышит». Окказионализм «далёкость» вбирает и связь времён (реальное / сказочное, прожитое / воображаемое), и ностальгию. «Дышит далёкостью» – метафора пребывания в идеальном прошлом.
Ремаркой «светло и растерянно» характеризуется детское, чистое, наивное, святое восприятие мира прошлого.
Описание Витебска художника даётся с точки зрения лирического субъекта, который воспринимает его исходя из своего опыта проживания творчества Шагала. Представляется, что здесь можно говорить об экфрастической поэтике, поскольку нет полного описания картин, но в тексте реализуются отдельные образы, детали, символы, «точка зрения», соотносимые с творчеством Марка Шагала.
Точка зрения на город панорамная, сверху: город как будто прибит к земле пожарной каланчой (метафора); герой «тянется к Витебску, словно растение» – амбивалентно прорастает с небес на землю. По словам М. Г. Смолиной, «…припо-днятое над землей состояние отнюдь не редкость для героев Марка Шагала. Словно во сне, над крышами летят коровы и ослы, скрипачи, старики, раввины, ангелы» [7, с. 335].
«Там свадьбы и смерти, моленья и ярмарки.
Там зреют особенно крупные яблоки, и сонный извозчик по площади катит...»
Приведённый фрагмент можно считать кульминацией стихотворения. Здесь наблюдается субъектный неосинкретизм, нерасчлененность точки зрения «героя» и субъекта. Позиция слушателя – позиция внутреннего приобщения к коллективному «знанию» (хвале), адресат входит в «круг» своих. Герой хранит и передаёт это знание. Воссоздание мира «того» Витебска строится как стилизация под архаичные нарративные практики – эпические сказания. Здесь выражается прецедентная картина мира, «…круговорот жизни – смерти – жизни» [8, с. 226], «…в рамках которого происходит только то, что и должно происходить» [9, с. 190]. По определению М. Элиаде «архаический человек» отказывается «…наделять значимостью нерегулярные события (то есть события, не имеющие архетипической модели)» [10, с. 132]. События, имеющие архетипические модели: «Свадьбы», «Смерти», «Моленья». Причём «смерть» и созревание плодов («зреют особенно крупные яблоки») – это явления одного порядка.
Выстраивается нарративная дистанция между событиями, о которых рассказывается, и событием самого рассказывания. «Яблоки зреют» и «сонный извозчик по городу катит» – настоящее время здесь и сейчас. «Яблоки» как знак райского сада, соответственно, Витебск с точки зрения героя воспринимается как рай на земле (миф о золотом детстве человечества).
У читателя возникает ощущение, что герой успокаивается после рассказа о Витебске. По определению В. И. Тюпы: «Отсутствие страха перед окружающей действительностью и укрепление веры в нерушимость жизнеуклада – основополагающая сверхценность в коммуникативном пространстве мифа…» [9, с. 196].
Названия улиц взяты в кавычки, и это может рассматриваться как своеобразный парафраз к названию картин – «Смоленская», «Замковая». В кругозоре героя они являются произведениями искусства. Лирический субъект реальных улиц Витебска не знает, в отличие от творчески преображенного Витебска на полотнах Шагала.
Интересным представляется сравнение «Как Волгою, / хвастает Видьбой-рекою». В этой строке проявляется позиция лирического субъекта и выстраивание собственной идентичности – он «другой», и у него есть «своя» река Волга, в отличие от Видьбы героя.
Риторический вопрос героя «А Вы не из Витебска?» – это приглашение к диалогу о «его» Витебске, своего рода рассказ (сказание) о «его» Витебске.
Биографическое пространство Витебска Марка Шагала (мир «еврейского местечка») достаточно хорошо изучено [7, 11]. Обозначим лишь некоторые факты, связанные с пребыванием Шагала в Витебске.
Марк Шагал родился в Витебске 6 июля 1887 года, вырос в окружении традиционного быта и патриархального уклада. В Витебске Шагалы занимались торговлей. Отец служил приказчиком на складе сельди, мать содержала бакалейную лавку в доме, где жила семья. В 1900 году Шагалы построили одноэтажный каменный дом рядом с уже существующим деревянным на Покровской улице, 29. Здесь Шагалы жили до конца 1920-х годов. Осенью 1900 года Марк поступает в Витебское четырехклассное городское училище с ремесленным уклоном. Посещает художественную школу Юделя Пэна, первого учителя. Зимой 1906/07
года Марк Шагал уезжает в Петербург. В 1915 году женится на Белле Розенфельд. В декабре 1917 года уезжает с семьей в Витебск. 12 сентября 1918 года решением Наркомата по просвещению назначен уполномоченным (комиссаром) по делам искусств в Витебской губернии. Организует оформление Витебска к первой годовщине революции. Объявляет прием в Народное художественное училище. В апреле 1919 года принимает заведование Народным художественным училищем, ведет в нем свою «Свободную живописную мастерскую». Выступает в прессе, организует диспуты, пишет публицистические статьи. В 1920 году активно участвует в организации Витебского музея современного искусства. В июне после конфликта с Казимиром Малевичем покидает Витебск и уезжает в Москву. По рекомендации Абрама Эфроса выполняет декорации и костюмы к спектаклю «Вечер Шолом-Алейхема», пишет живописные панно для зрительного зала Еврейского камерного театра. В 1922 году Марк и Белла навсегда покидают Россию.
Летом 1973 года Марк Шагал совершил поездку в Москву и Ленинград. В Москве в это время открылась его выставка, и художник передал в дар Музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 75 своих литографий. За день до отъезда в Париж, 20 июня, он сказал: «Я хотел бы... передать сердечный привет, мою любовь и самые добрые пожелания Витебску и моим землякам. Я решил отказаться от поездки в Витебск только потому, что, как говорят, сильное эмоциональное волнение опасно для людей моего возраста. Но все равно помню о Витебске и очень люблю его: у меня нет ни одной картины, на которой вы не увидите фрагменты моей Покровской улицы. Это, может быть, и недостаток, но отнюдь не с моей точки зрения» [12, с. 8].
Своё витебское детство Марк Шагал описал в автобиографической книге «Моя жизнь», наполненной тонкими лирическими воспоминаниями [13].
15 февраля 1944 года в нью-йоркском еженедельнике «Эйникайт» он публикует письмо – стихотворение в прозе – «К моему родному городу Витебску»:
«Как давно мой город любимый, не видел тебя, не слыхал, не беседовал с облаками твоими, не опирался о заборы твои.
Подобный грустному вечному страннику – дыханье твое я переносил с одного полотна на другое, все эти годы я обращался к тебе, ты мне мерещился во сне.
Мой дорогой, почему ты не сказал мне с болью – тогда, много лет назад: “Ты зачем покидаешь меня?”
На твоей земле, моя родина, душа моя, я оставил ту гору, в которой лежат мои умершие родители – камни осыпаются там и шуршат.
Почему я ушел от тебя? Мое сердце с тобою, с обновленным миром твоим, светозарным примером в истории» [14, с. 14].
Эта любовь к городу была лишь частицей любви к своему народу, родственникам, друзьям и знакомым.
По словам Н. В. Апчинской, ключевой образ в искусстве Шагала – «…человек, движущийся вперед с лицом, обращенным назад» [15, с. 179]. Это является определённым вектором и к интерпретации текста.
В четвёртый раз герой уже не спрашивает, а констатирует («– Так Вы не из Витебска…»). Герой приобщает субъекта к «своему» Витебску. Лирический субъект отвечает сам себе спустя некоторое время – «и жалко, что я не из Витебска». Поиск идентичности завершается её обретением.
В. Я. Малкина в работе «Образ Марка Шагала в российской поэзии XX века» справедливо пишет: «Наконец, образом темной дороги, уходящей то ли домой, то ли в никуда, стихотворение и заканчивается. Точки зрения лирического субъекта и героя (Шагала) как бы сливаются в одну картину» [3, с. 150].
Действительно в финале стихотворения происходит, с одной стороны, познание Витебска, культуры, взрастившей Шагала; с другой стороны, осознание лирическим субъектом себя как «другого». Лирический субъект, у которого есть Волга, как у героя-художника Видьба, есть «дом», в который «скорее» «пора» возвращаться, и деревья там стоят «вдоль дороги навытяжку». Этой метафорой передано совершенно другое мироустройство – всё «ровно», по-другому, в то время как у Шагала нет прямых линий. Там, куда нужно возвращаться, всё живёт по иным законам, аутентичным лирическому «я». Это вполне реальный пейзаж, не преображенный творческим воображением Шагала, в четко выдержанных пространственно-временных координатах, в рамках «реалистического изображения». Стихотворение может рассматриваться как диалог об искусстве: познание художественного мира «другого», поиск самоидентичности, создание «своего» художественного мира, исследование и выстраивание «другого» мира и углубление «своего».
Автором использованы принципы визуализации текста – выделение отдельных слов, словосочетаний (фиксация на отдельной строке), что создаёт многозначность прочтения. Например, «Темнеет…» относится к самостоятельной строке, после которой используется фигура умолчания. Затем новая строфа «И жалко» начинается с союза, объединяющего разноречивые высказывания, относящиеся и к внешнему миру, и к внутреннему. Такое построение акцентирует внимание на слове «жалко» – «жалко» расставаться, «жалко» осознавать «старость» и одиночество героя-художника, «жалко», что прошлое не вернуть. Рефрен в фина- ле выводит на новое осмысление текста. «И жалко, что я не из Витебска», но уже «я» – другой, осознавший это опыт. Между «я» первой строфы и последней выстроена огромная дистанция. Иными словами, код текста можно расшифровать таким образом: и жалко, что «я» не принадлежу к миру художника, хотя так его понимаю и после диалога о его мире, творчестве, биографии, пространстве и культуре становлюсь другим и лучше понимаю себя.
Выводы
Таким образом, субъектная архитектоника стихотворения эволюционирует от различения «Я» и «Другого» к некой неосинкретической форме – «надо прощаться» (нам), «скорее домой возвращаться» (нам). Лирический субъект вбирает опыт героя.
По словам С. Н. Бройтмана, «Хотя в лирике дистанция между автором и героем тоньше и трудней уловима, чем в других родах литературы, но граница эта является исторически меняющейся величиной. Наименьшая она при синкретическом типе лирического субъекта, бОльшая – при жанровом его типе, а в индивидуально-творческой поэзии сама эта граница (и ее кажущееся отсутствие) становится эстетически-сознательно разыгранной» [5, c. 320], что мы и показали на примере анализа стихотворения Р. Рождественского.
Список литературы Субъектная структура стихотворения Р. Рождественского «Марк Шагал»
- Рождественский, Р. Марк Шагал / Р. Рождественский // Полное собрание сочинений. – М.: Эксмо, 2019. – С. 635–637.
- Автухович, Т. Е. Невыразимо выразимое в поэзии и живописи: Язэп Дроздович и Марк Ша-гал в зеркале поэзии / Т. Е. Автухович // Antropo-logiczne aspekty literatury: Prace ofiarowane Profesor Wandzie Supie ; pod redakcjᶐ Weroniki Biegluk-Leś. – Bialystok: Wydawnictwo Universytetu w Bi-alymstoku, 2019. – С. 111–135.
- Малкина, В. Я. Образ Марка Шагала в российской поэзии XX века / В. Я. Малкина // Аксиологический диапазон художественной литературы: сборник научных статей; под научн. ред. В. Ю. Боровко, Е. В. Крикливец. – Витебск: Витебский государственный университет им. П. М. Маше-рова, 2020. – С. 149–152.
- Теория литературы: учебное пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 2. С. Н. Бройтман Историческая поэтика. – М.: Академия, 2004. – 368 с.
- Бройтман, С. Н. Лирический субъект / С. Н. Бройтман // Введение в литературоведение: учебное пособие / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др. – М.: Высшая школа, 2006. – С. 310–322.
- Колокольцева, Т. Н. Текстообразующий потенциал диалогичности и фигур диалогизма в лирических произведениях А. А. Вознесенского и Р. И. Рождественского / Т. Н. Колокольцева // Экология языка и коммуникативная практика. – 2019. – № 4 (1). – С. 70–82.
- Смолина, М. Г. Эстетизация образа родины в творчестве Марка Захаровича Шагала / М. Г. Смолина // Известия Байкальского государственного университета. – 2018. – Т. 28, № 2. – С. 334–341.
- Фрейденберг, О. М. Миф и литература древности / О. М. Фрейденберг. – М.: Восточная литература, 1998. – 800 с.
- Тюпа, В. И. Горизонты исторической нар-ратологии / В. И. Тюпа. – СПб.: Алетейя, 2021. – 270 с.
- Элиаде, М. Миф о вечном возвращении / М. Элиаде. – СПб.: Алетейя, 1998. – 249 с.
- Мартинович, В. Родина. Марк Шагал в Витебске / В. Мартинович. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 240 с.
- Мар, Н. Марк Шагал: «Мне здесь очень понравилось…» / Н. Мар // Литературная газета. – 1973. – № 25. – 20 июня. – С. 8.
- Шагал, М. Моя жизнь / М. Шагал ; пер. с франц. Е. С. Мавлевич ; послесл., комм. Н. В. Апчинской. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1994. – 208 с.
- Шагал, М. Моему родному Витебску / М. Шагал ; пер. Д. С. Симановича // Литературная газета. – 1987. – № 36. – 2 сентября. – С. 14.
- Апчинская, Н. В. Послесловие / Н. В. Ап-чинская // Шагал М. Моя жизнь ; пер. с франц. Е. С. Мавлевич. – М.: ЭЛЛИС ЛАК, 1994. – С. 179–197.