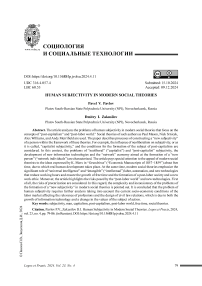Субъектность человека в современных социальных теориях
Автор: Павлов П.В., Закусилов Д.И.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется проблематика субъектности человека в современных социальных теориях, в центре внимания которых находятся концепты «посткапитализма» и «мира посттруда». Речь идет о социальных теориях таких авторов, как Пол Мейсон, Ник Срничек, Алекс Уильямс, а также Энди Мерифилд. В работе дается характеристика процессов конструирования «новой субъектности» человека, в рамках указанных теорий рассматривается «капиталистическая субъектность», влияние неолиберализма на субъектность, условия формирования субъекта посткапитализма. В этом контексте охарактеризованы проблемы «неолиберальной» («капиталистической») и «посткапиталистической» субъектности, развития новых информационных технологий и «сетевой» экономики, направленной на формирование «нового человека» («сетевых индивидов»). Особое внимание в статье уделяется обращению современных социальных теоретиков к высказанным К. Марксом в «Grundrisse» («Экономические рукописи 1857-1859 годов») идеям о свободном времени, благодаря которому происходит действительное развитие человека. При этом в современных социальных теориях подчеркивается значительная роль «всеобщего интеллекта», «нематериального» («интеллектуального») труда, автоматизации и новых технологий, которые уменьшают рабочее время и обеспечивают рост свободного времени и формирование посттрудового общества и новой трудовой этики. Вместе с тем в статье отмечаются риски, обусловленные «миром посттруда» и новыми технологиями. Речь идет, прежде всего, о рисках прекаризации. В этой связи указывается на сложность и противоречивость проблематики становления «новой субъектности» человека в современных социальных теориях. Делается вывод о том, что проблематика субъектности человека требует дальнейшего анализа с учетом современных социально-экономических условий функционирования рынка труда, влияющих на актуальность профессий, оформление гражданско-правовых отношений, что обусловлено как ростом информационных технологий, так и изменением ценностных установок субъекта действия.
Субъектность, человек, капитализм, посткапитализм, мир посттруда, свободное время, социальные теории
Короткий адрес: https://sciup.org/149147483
IDR: 149147483 | УДК: 316.4.057.4 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.4.11
Текст научной статьи Субъектность человека в современных социальных теориях
DOI:
Цитирование. Павлов П. В., Закусилов Д. И. Субъектность человека в современных социальных теориях // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 4. – С. 79–86. – DOI:
Эпоха современного капитализма, обещая всемерное развитие «индивидуальной свободы», предельно разобщает людей, разрушая межличностные связи и социальные отношения. В свое время Зигмунт Бауман, характеризуя современный мир как эпоху «текучей современности» [Бауман 2008], поставил вполне точный диагноз: в радикальных поисках «индивидуальности» утрачивается «социальность», но при этом разобщенные «индивидуумы» не обретают желаемой свободы. Отказ от «общественного» на деле оборачивается утратой подлинной индивидуальности и свободы.
Впрочем, в последнее время предлагается ряд теоретических концептов, таких как «посткапитализм», «мир посттруда», в рамках которых предлагается мыслить «освобождение» человека и формирование «новой субъектности». Речь идет, прежде всего, о социальных теориях, которые предложили Пол Мейсон, Ник Срничек и Алекс Уильямс. В определенном смысле к этим теориям примыкают идеи Энди Мерифилда. Необходимо отметить, что теории «посткапитализма» и «посттруда» являются разнородными как по теоретико-методологическим предпосылкам, так и по своему содержанию. Между тем, в этом многообразии можно выделить и проанализировать некоторые характерные подходы к пониманию «новой субъектности» человека. Что же представляет собой «новая субъектность» в современных социальных теориях?
Прежде всего, в современных социальных теориях констатируется, что пролетариат утратил свою субъектность, практически перестал быть действительным субъектом исторического процесса. Решающую роль в этом сыграла неолиберальная политика, разобщившая рабочий класс и ставшая ключевым фактором в формировании субъектности. Как отмечают Н. Срни-чек и А. Уильямс, к началу 1990-х гг. «рабочий класс практически полностью утратил роль привилегированного политического субъекта, зато стал заметен гораздо более широкий набор социальных идентичностей, общественных желаний и типов притеснения» [Срничек, Уильямс 2019, 36]. При этом в реалиях сегодняшнего дня обретение пролетариатом былой субъектности мыслится «маловероятным»: от прежней субъектности «остался лишь разрозненный набор частично пересекающихся интересов и противоречивых опытов» [Срничек, Уильямс 2019, 228]. Сегодня же господствует «капиталистическая субъектность», которая активно конструируется неолиберальной идеологией. И ключевой вопрос заключается в следующем: существуют ли альтернативы современной «неолиберальной субъектности»?
Весьма подробно исследуя становление неолиберализма, Н. Срничек и А. Уильямс подчеркивают существенную функцию неолиберальной идеологии: речь идет о «производстве субъектности». По их словам, «неолиберализм создает субъектность. Согласно его парадигме, мы являемся конкурирующими субъектами – эта роль содержит в себе и превосходит капиталистического производящего субъекта. Императив неолиберализма ведет этих субъектов к постоянному самосовершенствованию в каждом аспекте существования. Беспрестанное образование, вездесущее требование работоспособности, постоянная нужда в самообновлении – все это соответствует неолиберальному понятию субъектности» [Срничек, Уильямс 2019, 96]. Не удивительно, что для бесконечно конкурирующего, ра- ботоспособного и «самосовершенствующегося» «неолиберального субъекта» характерны, как пишут Срничек и Уильямс, «стресс, тревожность, депрессия, синдром дефицита внимания», однако более важным оказывается то обстоятельство, что «внедрение неолиберальной идеологии в повседневную жизнь стало также первоисточником политической пассивности» [Срничек, Уильямс 2019, 96].
Предлагая альтернативы, Н. Срничек и А. Уильямс говорят о «новой субъектности», противопоставляя ее пониманию нынешней «капиталистической субъектности», формируемой господствующей неолиберальной идеологией. Альтернативы они усматривают в будущем посткапиталистическом или посттрудовом обществе («мире посттруда»), которое базируется на «полной автоматизации экономики» (благодаря чему происходит освобождение человека от «изнурительного труда» и осуществляется рост производства), сокращении рабочего времени (рабочей недели), «безусловном базовом доходе», а также на преодолении трудовой этики, которая определяет капиталистическое общество. И здесь Срни-чек и Уильямс обращаются к идеям К. Маркса. Они подчеркивают, что «Маркс сделал сокращение рабочей недели ключевым элементом всего своего посткапиталистического воззрения, утверждая, что именно оно представляет собой “базовую предпосылку” для достижения “царства свободы”» [Срничек, Уильямс 2019, 167]. Принципиально важным является то обстоятельство, что «для Маркса первым принципом посткапитализма было “развитие человеческих сил, которое является самоцелью”», поскольку главное в учении Маркса – это идея «всеобщего освобождения» [Срничек, Уильямс 2019, 260].
Трансформацию субъекта, появление «нового субъекта» Н. Срничек и А. Уильямс связывают с кардинальными изменениями в трудовой этике: речь идет о том, чтобы более не рассматривать труд в качестве «высшего блага». Именно здесь они усматривают «поводы для надежды, поскольку в рабочей этике должен произойти сдвиг, необходимый для посттрудового общества. Этот проект приведет к трансформации субъекта: возникнут условия для массового превращения эгоистичных индивидуумов, созданных капита- лизмом, в общественные и творческие формы общественного выражения, освобожденные концом труда» [Срничек, Уильямс 2019, 255].
Можно сказать, что Н. Срничек и А. Уильямс – технологические оптимисты, поскольку они отводят первостепенную роль развитию новых технологий и «автоматизации труда» в деле освобождения человека и формирования его новой субъектности. При этом они отрицают, что грядущее посткапиталистическое (посттрудовое) будущее выявляет изначальную «сущность» человека, которая «скрыта» капитализмом. Новые технологии открывают возможности для развития человека и его будущего, которое не представляется возможным определить заранее, зафиксировать в готовых абстрактных формулировках. «Чтобы попасть в посткапиталистическое будущее, – подчеркивают Срничек и Уильямс, – нужно развернуться от пролетаризации человека к новому субъекту, изменившемуся и способному меняться дальше. Этот субъект не может быть определен заранее, его черты проявляются только по мере практического и концептуального развития событий» [Срничек, Уильямс 2019, 259].
Конечно, здесь возникает хорошо известный вопрос: не способствуют ли освобождение от труда и максимум свободного времени лишь увеличению «бездумного потребления» и появлению различного рода превратных форм активности, весьма далеких от действительного развития субъекта? И в этом случае Н. Срничек и А. Уильямс демонстрируют оптимизм, противопоставляя его пессимизму, который порожден современным капитализмом. Дело в том, полагаю они, что необходимо учитывать приоритет творческой деятельности в жизни человека, и поэтому гипотеза о том, что «посттрудовое общество разовьет в людях еще большую страсть к бездумному потреблению, не берет в расчет человеческую способность к творчеству и новым открытиям и апеллирует к пессимизму, вызванному текущей капиталистической субъектностью» [Срничек, Уильямс 2019, 259]. Что же касается будущего «субъекта посткапитализма», то для него как раз принципиальной становится именно творческая деятельность.
Идея развития новых технологий как пути к освобождению и появлению «новой субъектности» находится в центре внимания Пола Мейсона, его теоретической версии будущего «посткапитализма». П. Мейсон делает акцент на развитии новых информационных технологий, отмечая, что начиная с 1990-х гг. становится очевидным, что под воздействием этих технологий происходят существенные изменения капитализма. Появились, отмечает Мейсон, такие концепты, как «экономика знаний», «информационное общество», «когнитивный капитализм», однако при этом считалось, что новые информационные технологии и капитализм поддерживают и взаимно укрепляют друг друга.
П. Мейсон предлагает существенно иной взгляд: «информационное общество» выступает лишь как переходная ступень к новому состоянию – посткапитализму. Его основной тезис гласит: «Информационные технологии не создают новую, более стабильную форму капитализма, а расшатывают его, разъедая рыночные механизмы, подтачивая права собственности и разрушая прежние взаимосвязи между зарплатами, трудом и прибылью» [Мейсон 2016, 165]. Более того, Мейсон предлагает «еще более радикальную мысль: информационные технологии ведут нас к посткапиталистической экономике» [Мейсон 2016, 165].
Речь идет о новой, «сетевой» экономике, в основе которой – «сетевые отношения», «сетевой образ жизни». Посткапитализм и посткапиталистическая экономика возникают тогда, когда современные технологии и сетевые отношения разрушают иерархические структуры капитализма и рыночные механизмы. Но Мейсона интересует не только новая, «посткапиталистическая экономика», важнее для него – переход к «новому человеку», который формируется этой новой экономикой. У Мейсона новый посткапиталистический субъект представлен «новым поколением сетевых людей», «индивидами, подключенными к сети». Эти «сетевые индивиды» способны «черпать знания из относительно открытой глобальной системы. Их жизнь подчинена сетевому ритму – от работы и потребления до отношений и культуры» [Мейсон 2016, 168].
При этом, согласно Мейсону, подобный переход от капитализма к посткапитализму были намечен К. Марксом в «Grundrisse»
(«Экономические рукописи 1857–1859 годов»). Здесь, как пишет Мейсон, «мы сталкиваемся с иной моделью перехода: обеспеченный знаниями уход от капитализма, в котором главное противоречие лежит между технологиями и рыночным капитализмом. В этой модели, которую Маркс набросал на бумаге в 1858 году и о которой левые узнали лишь через сто с лишним лет, капитализм гибнет потому, что не может сосуществовать с коллективным знанием. Классовая борьба перетекает в борьбу за человечность и за возможность получать образование в свое свободное время» [Мейсон 2016, 198].
По мнению Мейсона, в «Grundrisse» Маркс предлагает подход, согласно которому «социальное знание» и «всеобщий интеллект» – знание, накопленное человечеством, – способствуют разрушению рыночного механизма. «Социально создаваемая информация», воплощенная в машинах, создает «новую динамику, которая разрушает старые механизмы, создающие цены и прибыль», поэтому в концепции Маркса, продолжает Мейсон, «капитализм был вынужден развивать интеллектуальные способности рабочего. И в его концепции информация накапливалась и распределялась в чем-то под названием “всеобщий интеллект”, который представлял собой разум всех людей на Земле, связанных между собой благодаря социальному знанию, каждое улучшение которого приносит выгоду всем. Коротко говоря, в его концепции описывалось нечто похожее на информационный капитализм, в котором мы живем» [Мейсон 2016, 199].
Получается, согласно П. Мейсону, что Маркс «предсказал» современный «информационный капитализм». Однако главное для Маркса – это возможность «освобождения», «свободы от труда», идея свободного времени как ключевого фактора формирования нового субъекта. Маркс подчеркивает в «Grundrisse»: «Свободное время – представляющее собой как досуг, так и время для более возвышенной деятельности – разумеется, превращает того, кто им обладает, в иного субъекта, и в качестве этого иного субъекта он и вступает затем в непосредственный процесс производства» [Маркс, Энгельс 1969, 221]. Причем, продолжает Маркс, этот появившийся благодаря сво- бодному времени «иной субъект» способен сосредотачивать в себе «накопленные обществом знания» и творчески применять, «предметно воплощать» их.
Согласно П. Мейсону, технологические новации принципиальным образом изменяют природу труда, стирают границы между досугом и трудом, благодаря чему появляются «множественные экономические индивидуальности, являющиеся той экономической основой, на которой появился новый тип человека со множеством “я”. Этот новый тип человека, сетевой индивид, представляет собой носителя посткапиталистического общества, которое могло бы возникнуть» [Мейсон 2016, 207]. Именно «сетевое человечество», полагает П. Мейсон, представляет собой «новый исторический субъект», который приходит на смену рабочему классу. И здесь интересно то, что «стиль жизни» этого «нового субъекта» определяется уже вовсе не солидарностью, которая в прежние времена была характерна для рабочего класса. Как подчеркивает Мейсон, отличительной чертой «стиля жизни» «сетевого человечества» («разнообразного глобального населения»), выступающего в качестве «нового исторического субъекта», является, прежде всего, «непостоянство».
Весьма характерно, что современные социальные теоретики обращаются к Марксу, к его идеям о свободном времени, высказанным в «Grundrisse». Согласно П. Мейсону, именно здесь содержится «самая революционная мысль, которую когда-либо высказывал Маркс: сведение труда к минимуму может создать человека, способного полностью использовать все накопленное знание общества; создать индивида, которого преобразовала толща произведенных обществом знаний и у которого впервые в истории свободного времени оказалось больше, чем рабочего» [Мейсон 2016, 200].
Схожий интерес к идеям «Grundrisse» обнаруживается и в концепции Энди Мерифил-да, который полагает, что самое главное и актуальное в Марксе сегодня – это его идея свободного времени, благодаря которому происходит развитие человека. Марксизм, по мысли Э. Мерифилда, говорит прежде всего об «освобожденном времени» и «праве на свободное время» [Мерифилд 2020]. Обращаясь к марксовой мысли о свободном времени как мере действительного богатства, Мерифилд пишет: «Если из творчества Маркса что-то и стоит вынести, так это то, что время – наша самая драгоценная собственность, потенциальный источник общественных и личных богатств, настоящий человеческий капитал… Умение распоряжаться свободным временем чрезвычайно важно для личности человека… В обществе, где время освобождено и люди могут распоряжаться им по своему усмотрению, “вторая жизнь” (как ее называл Маркс) человека вне рабочего места станет его “реальной жизнью”» [Мерифилд 2018, 165–166].
В «Grundrisse» Маркс стремится показать путь к «царству свободы» через преодоление необходимости «нескончаемой работы и нескончаемого отчуждения» [Мерифилд 2020], обозначить путь к действительным возможностям всестороннего творческого развития индивидуальностей. Как подчеркивает Маркс, «главной основой богатства» становится «развитие общественного индивида», а «не непосредственный труд, выполняемый самим человеком, и не время, в течение которого он работает»: когда «труд в его непосредственной форме перестал быть великим источником богатства, рабочее время перестает и должно перестать быть мерой богатства… Прибавочный труд рабочих масс перестал быть условием для развития всеобщего богатства… Происходит свободное развитие индивидуальностей…» [Маркс, Энгельс 1969, 214]. И здесь принципиально то, что, как далее специально отмечает Маркс, речь идет не просто о сокращении «необходимого рабочего времени ради полагания прибавочного труда», но, прежде всего, о «сведении необходимого труда общества к минимуму». И как раз именно «благодаря высвободившемуся для всех времени и созданным для этого средствам» происходит подлинное развитие индивидуальностей (художественное, научное и т. д.) [Маркс, Энгельс 1969, 214].
Свободное время становится мерой подлинного богатства, обеспечивая реальную возможность «свободного развития индивидуальностей», творческого развития человека, его самодеятельности в самых различных сферах. При этом важную роль в «освобождении» времени и человека играют новые тех- нологии. Как полагает Э. Мерифилд, важной заслугой Маркса было то, что он вполне ясно осознавал колоссальные возможности новых технологий в деле «преображения природы» и в качестве средств, которые способствуют освобождению человека от изнурительного труда. Развитие новых технологий и «технологическое применение науки» приводят к тому, что существенным становится не столько физический труд, сколько труд интеллектуальный. Важнейшее значение приобретают накопленные человечеством знания («общественное знание», «всеобщий интеллект»).
Э. Мерифилд, подобно П. Мейсону, подчеркивает первостепенную роль «всеобщего интеллекта», «нематериального» («интеллектуального») труда, автоматизации и высоких технологий, которые уменьшают рабочее время и обеспечивают рост свободного времени. Но такая реальность, отмечает Мерифилд, была уже спрогнозирована Марксом в «Grundrisse»: «Маркс пишет о наличии всех необходимых средств и инструментов, чтобы обеспечить свободное время и снизить время труда до минимума. Время каждого может быть освобождено для того, чтобы дать ему возможность вести более полноценную и счастливую жизнь после работы» [Мерифилд 2018, 113]. При этом Мерифилд уверен, что «такое будущее без работы (post-work) недостижимо в мире труда ради труда» [Мерифилд 2018, 113].
Конечно, современные социальные теоретики понимают «риски» и «угрозы», которые порождаются «миром посттруда» и новыми технологиями. Речь идет, прежде всего, о прекаризации и росте безработицы, а также о разобщении людей и превращении свободного времени в пустое и бессмысленное «времяпрепровождение». Но вместе с тем в современных социальных теориях подчеркиваются и «огромные возможности», которые несет с собой «посттрудовой мир» [Мерифилд 2020]. Что касается свободного времени, то речь идет о том, что оно должно быть направлено на действительное творческое развитие и образование человека, о чем и говорил Маркс.
Между тем, конечно, следует отметить сложность и противоречивость проблематики становления «новой субъектности» человека в современных социальных теориях. Дискуссионным остается вопрос о новом субъекте исторического процесса, о котором говорят теоретики посткапитализма и «мира посттруда». Так, П. Мейсон указывает на «сетевых индивидов» в качестве посткапи-талитического субъекта, а Н. Срничек и А. Уильямс подчеркивают творческий характер этого будущего субъекта. Впрочем, не так давно надежды возлагались на «творческую элиту», «креативный класс» [Florida 2002], однако в рамках сегодняшних социально-экономических реалий становится понятно, что «креативный класс» в значительной степени сменяется прекариатом, ключевая черта которого – нестабильная занятость и отсутствие действительных социальных гарантий. Как отмечает Е.В. Мареева, сам «креативный класс» оказался разделенным на элиту и эксплуатируемый пре-кариат, ряды которого массово пополняют люди «творческих профессий» [Мареева 2018]. При этом в современном обществе наблюдается не только прекаризация труда, но и более масштабное явление – «прека-ризация жизни» [От прекарной занятости… 2022; Тощенко 2018; 2020]. В свете указанных реалий проблема субъектности человека, ее противоречивого становления в современном мире требует дальнейшего обстоятельного анализа.
Список литературы Субъектность человека в современных социальных теориях
- Бауман 2008 - Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.
- Мареева 2018 - Мареева Е.В. Прекариат в системе духовного производства. Эксплуатация по-новому // Свободная мысль. 2018. № 2. С. 77- 82.
- Маркс, Энгельс 1969 - Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46, ч. II. М.: Политиздат, 1969.
- Мейсон 2016 - Мейсон П. Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему. М.: Ad Marginem Press, 2016.
- Мерифилд 2018 - Мерифилд Э. Любитель. Искусство делать то, что любишь. М.: Ad Marginem Press, 2018.
- Мерифилд 2020 - Мерифилд Э. Магический марксизм. М.: Ad Marginem Press, 2020.
- Срничек, Уильямс 2019 - Срничек Н., Уильямс А. Изобретая будущее: посткапитализм и мир без труда. М.: Strelka Press, 2019.
- Тощенко 2018 - Тощенко Ж. Т. Прекариат: от прото-класса к новому классу. М.: Наука, 2018.
- Тощенко 2020 - Тощенко Ж.Т. Прекарная занятость -феномен современной экономики // Социологические исследования. 2020. № 8. С. 3-13.
- Тощенко (ред.) 2022 - ТощенкоЖ.Т. (ред.). От прекарной занятости к прекаризации жизни. М.: Весь Мир, 2022.
- Florida 2002 - Florida R. The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life. N. Y.: Basic Books, 2002.