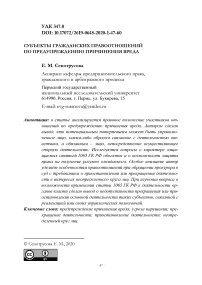Субъекты гражданских правоотношений по предупреждению причинения вреда
Автор: Сенотрусова Е.М.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское, семейное и предпринимательское право
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется правовое положение участников отношений по предупреждению причинения вреда. Автором сделан вывод, что потенциальным потерпевшим может быть управомоченное лицо, каким-либо образом связанное с деятельностью ответчика, а обязанным - лицо, непосредственно осуществляющее спорную деятельность. Исследуются вопросы о характере защищаемых статьей 1065 ГК РФ объектов и о возможности защиты права на получение разумно ожидаемого. Особое внимание автор уделяет особенностям правоотношений при обращении прокурора в суд с требованием о приостановлении или прекращении деятельности в интересах неопределенного круга лиц. При изучении вопроса о возможности применения статьи 1065 ГК РФ к деятельности органов власти сделан вывод о недопустимости прекращения или приостановления основной деятельности таких субъектов, связанной с реализацией ими своих управленческих полномочий.
Предупреждение причинения вреда, угроза нарушения, прекращение деятельности, приостановление деятельности, неопределенный круг лиц
Короткий адрес: https://sciup.org/147230056
IDR: 147230056 | УДК: 347.0 | DOI: 10.17072/2619-0648-2020-1-47-60
Текст научной статьи Субъекты гражданских правоотношений по предупреждению причинения вреда
Н есмотря на слабую разработанность темы предупреждения причинения вреда, большинство авторов сходятся в том, что соответствующие гражданско-правовые отношения являются относительными и устанавливаются между конкретными потенциальными причинителем вреда и потерпевшим. Разделяя эту позицию, выделим правовые особенности, характеризующие участников рассматриваемых правоотношений.
Так, лицо может быть признано потенциальным потерпевшим только в случае, если в отношении права (блага) этого лица деятельностью ответчика создана угроза причинения вреда. Иными словами, это лицо должно иметь материальный интерес при вступлении в дело, т. е. обладать определенным правом (благом), защита которого и является целью запрета или приостановления спорной деятельности. Е. А. Гусева пишет, что такая «заинтересованность должна носить <…> непосредственный, прямой характер. В противном случае оцениваемый иск вполне может стать юридическим инструментом злоупотреблений и неоправданных ограничений деятельности лица, в том числе со стороны недобросовестных конкурентов…»1.
Анализ научной литературы и судебной практики показывает, что объекты, подпадающие под угрозу причинения вреда в контексте статьи 1065 ГК РФ, всегда носят абсолютный характер (право на жизнь и здоровье, на благоприятную окружающую среду, личная неприкосновенность, честь и доброе имя2 и т.д.). При этом управомоченной стороной в рассматриваемых отношениях могут быть как граждане, так и иные участники гражданского оборота.
Абсолютное правоотношение оформляет принадлежность прав (благ) конкретному лицу и обеспечивает возможность их беспрепятственного осуществления путем возложения на иных участников оборота обязанностей пассивного характера: не нарушать, не препятствовать и не создавать угрозы нарушения. Интерес управомоченного лица удовлетворяется посредством его самостоятельных действий, а требование к потенциальному нарушителю направлено на обеспечение безопасности принадлежащих ему прав (благ).
Таким образом, в отношениях по предупреждению причинения вреда на обязанное лицо возлагается прежде всего вытекающая из принципа всеобщей защиты гражданских прав пассивная функция устранить созданную угрозу нарушения прав (благ) путем прекращения или приостановления деятельности. Указанное лицо, как и все иные лица, обязано не создавать угрозу нарушения защищаемого объекта, однако отличается от них тем, что именно его действия в данный момент создают реальную угрозу.
Говоря о характере защищаемых благ, следует отдельно рассмотреть возможность предоставления защиты по статье 1065 ГК РФ кредитору или иному заинтересованному лицу в относительных обязательственных, наследственных, корпоративных и иных правоотношениях.
Так, в литературе высказываются предложения о необходимости установления защиты относительных прав от воздействия третьих лиц3, поскольку «их осуществлению может воспрепятствовать не только непосредственно обязанная сторона <…>, но и любое третье лицо, не связанное с управомоченным обязательственным отношением»4. Как отмечает О. В. Гутников, третье лицо может «нарушить относительное право косвенно, путем воспрепятствования исполнению обязательства должником или осуществления действий, которые делают исполнение обязательства невозможным либо умаляют ценность имущественного права для кредитора»5.
Соглашаясь с таким предложением, полагаем, что закон, кроме того, должен напрямую запретить третьим лицам создавать угрозу нарушения относительных прав иных лиц. Следует говорить о возможности защиты от угрозы причинения вреда в будущем абсолютного по своему характеру права лица, являющегося кредитором или иным заинтересованным лицом (например, наследник, акционер), на приобретение разумно ожидаемого. Для предоставления такой защиты указанное лицо должно доказать наличие у него законного интереса в запрете или приостановлении деятельности ответчика.
Приведем пример. А. заключил с Б. предварительный договор купли-продажи нежилого помещения в здании. Собственник другого помещения в этом здании С. производит реконструкцию своей части здания. В ходе работы С. допускает нарушения строительных норм и правил, которые могут привести к постепенному разрушению здания в целом (снижение прочности и устойчивости конструкций и пр.) и о которых становится известно А. Лицо Б. не принимает мер для пресечения нарушений и защиты своего права собственности по каким-либо причинам (длительная командировка в другой стране, тяжелое состояние здоровья, пр.). Может ли А. обратиться в суд с требованием о запрете деятельности С. ввиду создания реальной угрозы причинения вреда зданию в целом? Если действия С. не будут своевременно пресечены, то это повлечет разрушение здания в целом и А. получит по заключенному договору купли-продажи помещение с существенными недостатками либо этот договор вообще не сможет быть исполнен. Безусловно, в этих случаях
А. будет вправе заявить определенные требования к Б., как-то: о расторжении договора и возмещении убытков, исправлении недостатков и пр. Однако гражданское законодательство должно стремиться к предупреждению причинения возможного вреда, сохранению здоровых отношений между участниками оборота и оправданию их разумных ожиданий. Кроме того, указанные требования А. к Б., скорее всего, не смогут полностью привести отношения между ними в прежнее состояние, существовавшее до нарушения (А. устраивает месторасположение именно этого помещения, планировка и прочие его характеристики; поиск другого контрагента и заключение нового договора потребует организационных и временных затрат, которые не подлежат возмещению, пр.).
С учетом изложенного полагаем, что в статье 1065 ГК РФ должно быть закреплено, что требовать приостановления или прекращения деятельности вправе лицо, в отношении абсолютного права (блага) имущественного или неимущественного (нематериального) характера которого такой деятельностью создана опасность причинения вреда, в том числе лицо, управомоченное на получение разумно ожидаемого, если это право находится под угрозой нарушения.
В ряде случаев закон допускает обращение в суд с требованием о приостановлении или запрете деятельности в интересах других лиц. К примеру, согласно части 1 статьи 45 ГКП РФ прокурор вправе обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов публично-правовых образований. С точки зрения изучения положения управомоченного лица особый интерес из приведенной нормы вызывает ситуация обращения прокурора в суд в интересах неопределенного круга лиц.
О. А. Фирсова и Я. Б. Дицевич отмечают, что «неопределенный круг лиц невозможно индивидуализировать. <...> В этих случаях состав потенциальных истцов не поддается точному установлению не только до начала судебного разбирательства, но и после его окончания»6. О. Г. Патуева полагает, что неопределенный круг лиц – это такая множественность участников материальных правоотношений, в которой невозможно заранее предвидеть ее поименный состав применительно к любому отдельно взятому моменту времени7.
Верховный Суд РФ указал, что «под неопределенным кругом лиц понимается такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать (опре- делить), привлечь в процесс в качестве истцов, указать в решении, а также решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них…»8.
Практика прокурорского надзора и рассмотрения конкретных дел в судах показывает, что иски в защиту неопределенного круга лиц направлены на защиту прав не только известных (например, ученики, педагогические и иные работники образовательного учреждения), но и иных лиц (например, возможные посетители учреждения), а также в целом на профилактику и предупреждение возможного причинения вреда жизни, здоровью и законным интересам граждан. Так, прокурор обратился в суд с требованием о приостановлении деятельности торгового центра в связи с выявленными нарушениями градостроительного законодательства, создающими угрозу обрушения несущих конструкций здания. Поскольку лица, осуществляющие торговую и иную аналогичную деятельность в этом центре, обязаны заключать договоры с каждым, кто к ним обратится, то их потенциальным контрагентом, а значит потенциальным посетителем здания центра и потерпевшим может стать каждый. Кроме того, лица вправе посещать торговые центры без намерения заключать какие-либо договоры. Таким образом, круг лиц, которым может быть причинен вред, нельзя установить заранее. Исходя из этого, о каких-либо относительных гражданских правоотношениях между субъектом, осуществляющим деятельность по эксплуатации торгового центра, и лицами, которым потенциально может быть причинен вред, говорить нельзя. Безусловно, в такой ситуации, как правило, есть отдельные лица, для которых угроза причинения вреда уже возникла (например, работники этого торгового центра), а значит, возникло и правоотношение по предупреждению причинения вреда принадлежащим им правам (благам)9. Однако в данной ситуации помимо уже возникших правоотношений по предупреждению причинения вреда правам (благам) конкретных лиц имеют место публично-правовые отношения, складывающиеся между неравными субъектами и направленные на обеспечение безопасности в общественных местах и профилактику возможных нарушений прав граждан. Лица, входящие в неопределенный круг лиц, имеют такие нематериальные блага, как жизнь, здоровье и пр., а субъект,
_________________ ГРАЖДАНСКОЕ, СЕМЕЙНОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО осуществляющий деятельность по эксплуатации торгового центра, обязан не нарушать их и не создавать угрозы их нарушения. Однако поскольку угроза причинения вреда благам этих лиц реально еще не возникла, то и правовое положение такого субъекта не отличается от положения иных обязанных лиц в абсолютных правоотношениях.
Кроме того, зачастую при приостановлении или запрете деятельности на основании статьи 1065 ГК РФ конкретных лиц, правам или благам которых грозит опасность, не имеется, а правоотношений по предупреждению причинения вреда не возникает вовсе. В таких случаях мы имеем дело только с публично-правовыми отношениями по запрету или приостановлению не реально, а потенциально опасной деятельности. Подобная ситуация складывается при прекращении в судебном порядке деятельности по осуществлению пассажирских перевозок с нарушением установленных требований, по управлению транспортными средствами в связи с наличием медицинских противопоказаний, при приостановлении деятельности объектов общественного питания в связи с существенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. На наш взгляд, при заявлении подобных требований достаточно ссылки на статью 12 ГК РФ, закрепляющую такой способ защиты как пресечение действий.
Весьма интересным является мнение О. Бухтояровой, которая утверждает, что «под защитой неопределенного круга лиц следует понимать защиту общих интересов физических лиц, когда установление их точного количества не требуется»10. Е. Е. Уксусова придерживается похожего мнения и утверждает, что речь в таких случаях идет о защите объектов особого рода – «неких общих благ (ценностей)»11. Мы позволим себе не согласиться с мнением этих авторов и поддержать позицию О. Г. Патуевой, согласно которой при рассмотрении дел о защите прав неопределенного круга лиц речь идет не об общих, а об однородных правах и интересах12.
Действительно, право на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду и др. принадлежат каждому из нас. Эти права нельзя назвать общими, коллективными. Они автономны. Нарушение прав одного человека не влечет автоматически нарушения соответствующих прав других лиц. Значит, и правоотношение по предупреждению причинения вреда тому или иному благу автономно от других аналогичных связей между иными лицами. Безусловно, само по себе состояние окружающей среды имеет огромное значение для всего человечества, но с точки зрения закона об общем благе или интересе речи идти не может, правовое содержание и режим таких предлагаемых авторами терминов недостаточно определены.
Изложенное позволяет сделать вывод об еще одной особенности отношений по предупреждению причинения вреда. Так, в обязательственных и иных гражданских правоотношениях в случае, если несколько самостоятельных кредиторов предъявляют одно и то же требование, как правило, речь идет о конкуренции интересов и требований таких лиц. В отношениях же по предупреждению причинения вреда складывается иная ситуация: многочисленность самостоятельных управомоченных лиц, как правило, типична для таких отношений, и их интересы не конкурируют, а, напротив, являются тождественными и сводятся к необходимости устранения опасности схожим правам (благам). Д. А. Туманов пишет, что «защита благ, которые имеют значение для многих лиц, нередко сопряжена и с тем, что посредством такого блага могут удовлетворяться и личные интересы отдельных лиц…»13. Данная особенность является важной с точки зрения процессуального права, поскольку соответствующие требования, направленные на защиту принадлежащих истцу прав, одновременно способствуют защите прав и других лиц. В подобной ситуации отсутствие у истца полномочий на защиту прав иных лиц не может быть основанием отказа в принятии иска или в его удовлетворении14.
Несмотря на отсутствие законодательных запретов на обращение конкретного гражданина в суд в такой ситуации, правоприменительная практика не однозначна. С этой точки зрения показательным является определение Конституционного Суда РФ от 26 мая 2016 г. № 1003-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Кузнецова В. Н., Муртазина З. А. и Олейник Н. Г. на нарушение их конституционных прав статей 11 и 12 Федерального закона «Об охране окружающей среды».
Указанные граждане обратились в суд с требованием к предприятию об обязании снизить вредные выбросы в атмосферный воздух и прекратить строительство золоотвала в природоохранной зоне. В обоснование требования они приложили газетные публикации о неблагополучной экологической обстановке в г. Омске. Суд первой инстанции оставил иск без движения и предложил истцам представить доказательства, подтверждающие связь между заболеванием супруги одного из истцов и действиями ответчика, а также доказательства негативного воздействия экологической обстановки в г. Омске на их здоровье15. Кроме того, суд указал, что с требованиями о прекращении хозяйственной деятельности уполномочены обращаться только компетентные органы. Суд апелляционной инстанции поддержал указанную позицию.
Конституционный Суд РФ, излагая свое мнение по данному вопросу, на наш взгляд, допустил квалифицированное молчание, не дав конкретного ответа на вопрос о том, могут ли граждане обратиться в суд с требованием о предупреждении причинения вреда окружающей среде. Суд указал на признание за каждым конституционного права на охрану здоровья и на благоприятную окружающую среду, на наличие механизма государственных гарантий и открытый характер перечня прав граждан в данной области. Особым образом суд акцентировал внимание на праве граждан в целях предотвращения вреда окружающей среде обращаться в уполномоченные органы для проведения проверки соблюдения хозяйствующим субъектом установленных требований, а также праве граждан на обращение в суд в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 1064 ГК РФ.
Д. А. Туманов указывает, что в подобных случаях «гражданам должны предоставляться широкие возможности по обращению в суд в защиту неких общих интересов при обосновании ими своей принадлежности к социальной группе (общности), являющейся носителем интереса»16. Полагаем, что введение дополнительного подлежащего доказыванию факта (принадлежность к социальной группе), а также неопределенного термина «общие интересы» может только усугубить ситуацию и внести дополнительные трудности в правоприменительную практику. Достаточно того, чтобы гражданин надлежащим образом защитил принадлежащее ему право или благо, что, в свою очередь, устранит угрозу и для иных лиц. Во избежание необоснованных отказов в судебной защите в законе следует прямо указать, что отсутствие у потенциального потерпевшего полномочий на защиту прав (благ) иных лиц не может быть препятствием для защиты аналогичного по содержанию и принадлежащего ему права (блага) от угрозы его нарушения.
Характеризуя управомоченное лицо в отношениях по предупреждению вреда, О. Г. Ершов пишет, что «право требования устранить опасность причинения вреда возникает не у любого лица, а только у того, кто территори- ально связан с процессом строительства и способен испытывать или испытывает на себе его влияние»17. В целом соглашаясь с предложением О. Г. Ершова, заметим, что речь должна вестись не о территориальной связанности, а в целом о какой-либо связанности потенциального потерпевшего с деятельностью ответчика. Такой критерий является более общим, применим ко всем видам деятельности, могущим создавать опасность причинения вреда, и тесным образом связан с доказыванием материальной заинтересованности управомоченного лица и реальности угрозы. Допустим, авиакомпания осуществляет деятельность по авиаперевозке пассажиров при наличии существенных повреждений взлетной полосы аэропорта. Предъявить требование о приостановлении деятельности по авиаперевозкам до устранения нарушений вправе только такое частное лицо, которое каким-либо образом связано со спорной деятельностью (например, гражданин, приобретший билет на рейс этой авиакомпании). Отсутствие такого критерия может привести к недобросовестному использованию рассматриваемого нами способа защиты.
Говоря об определении круга обязанных лиц в отношениях по предупреждению вреда, выделим два ключевых момента: осуществление деятельности, создающей опасность причинения вреда, и особенности правового статуса (наделение властными полномочиями, цель создания, др.).
Так, требование о запрете или приостановлении деятельности может быть адресовано только лицу, деятельность которого непосредственно создает опасность причинения вреда. Например, действия застройщика по заключению договора строительного подряда с иным лицом и самостоятельно не осуществляющего строительных работ или действия руководящего состава организации высшего образования по сдаче в аренду юридическому лицу помещения для осуществления последним деятельности по предоставлению услуг общественного питания сами по себе создать угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан не могут.
Прокурор обратился в суд к Р. с требованием о запрете эксплуатации принадлежащего ему здания, в том числе путем передачи прав владения, пользования и распоряжения, до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Суды в удовлетворении исковых требований отказали, указав, что «в случае установления <…> угрозы нарушения прав <…> деятельность в виде предоставления услуг кафе в данном здании могла быть
_________________ ГРАЖДАНСКОЕ, СЕМЕЙНОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО приостановлена или прекращена, однако такие требования должны быть заявлены к организации, осуществляющей такую деятельность. ООО “Пицееш-ка”, осуществляющее такую деятельность в данном здании, не привлекалась в качестве ответчика либо соответчика по данному делу»18. Таким образом, действия собственника по сдаче здания в аренду иному лицу сами по себе не создают угрозу причинения вреда, а являются правомерным способом реализации права собственности.
Обязанное лицо также должно быть правоспособно и выступать в соответствующих отношениях в качестве самостоятельного субъекта. Скажем, нельзя предъявить требование о приостановлении строительства к работнику строительной компании, так как исходя из положений закона о юридических лицах и статьи 1068 ГК РФ, можно заключить, что работник в таких «внешних» отношениях является не самостоятельным субъектом, а некой составляющей юридического лица.
Что касается вопроса о правовом статусе потенциальных нарушителей, то он сводится прежде всего к возможности применения статьи 1065 ГК РФ к органам власти19. По этому поводу С. С. Бондаренко пишет, что, если «деятельность органа власти выразилась в принятии правового акта (нормативного или индивидуального) <…>, в этом случае ст. 1065 ГК РФ неприменима», если же «опасность создается фактической деятельностью органа власти <…>, применение ст. 1065 ГК РФ к такой деятельности представляется возможным (например, в отношении согласованных действий органов власти, нарушающих антимонопольное законодательство)»20. Соглашаясь с выводом о невозможности применения статьи 1065 ГК РФ при создании угрозы принятием правового акта, мы не можем полностью разделить мнение автора о допустимости прекращения или приостановления фактической деятельности органов власти.
Большая часть отношений, в которых участвуют такие лица, является публичной и регулируется специальным законодательством, которое предусматривает особые, отличные от предусмотренных в статье 1065 ГК РФ, способы и меры защиты. К примеру, согласно пункту 3 статьи 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный орган выдает федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов орга- нам или организациям, а также государственным внебюджетным фондам, их должностным лицам обязательные для исполнения предписания о прекращении соглашений или иных действий, нарушающих антимонопольное законодательство. В случае неисполнения изложенных в них требований антимонопольный орган на основании пункта 6 статьи 23 указанного закона вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о понуждении к исполнению выданного им предписания. Ссылка на статью 1065 ГК РФ в данной ситуации является излишней. Установить конкретных лиц, правам или благам которых создана опасность причинения вреда, не представляется возможным, речь идет лишь о потенциальной, абстрактной угрозе нарушения прав и интересов предпринимательского сообщества.
Вместе с тем несправедливым является и вывод о полном запрете применения статьи 1065 ГК РФ к органам власти, поскольку это повлечет неоправданное снижение гарантий иных лиц в отношениях с публичным элементом. Требуется нахождение компромисса.
Так, представляется недопустимым приостановление или прекращение основной деятельности органов государственной власти, государственных органов и учреждений, которые не обладают самостоятельными властными полномочиями, но необходимы государству для эффективной реализации властных предписаний, в том числе материальных придатков государственного аппарата, а также основной деятельности органов местного самоуправления.
Применительно к органам власти основная деятельность сводится к ведущим управленческим, исполнительно-распорядительным и контролирующим полномочиям, составляющим компетенцию соответствующего органа21. Деятельность так называемых материальных придатков (воинские части, исправительные учреждения, др.), на наш взгляд, может быть только основной, вспомогательных функций, как правило, за такими субъектами не закрепля-ется22. В случае нарушения указанными субъектами требований законодательства или прав других лиц при осуществлении их основной деятельности следует применять иной способ защиты – признание соответствующих действий или актов незаконными или недействительными.
Прокурор района обратился в суд с требованием о запрете деятельности изолятора временного содержания в связи с наличием в его деятельности на протяжении длительного времени грубых нарушений законодательства о порядке содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, иных правовых актов (отсутствие санитарных узлов с соблюдением требований приватности, канализации, дезинфекционной камеры, др.). Суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, указал, что «прокурором <…> неверно избран способ защиты <…>, поскольку изолятор временного содержания, как структурное подразделение <…> отдела полиции, не является субъектом, деятельность которого может быть запрещена или приостановлена в соответствии со ст. 1065 ГК РФ»23. Суд справедливо отказал прокурору в удовлетворении требований, поскольку, исходя из статьи 9 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», можно заключить, что содержание задержанных под стражей является основной и единственно возможной деятельностью изолятора временного содержания, а значит, ее прекращение фактически тождественно его ликвидации и приведет к невозможности реализации соответствующей государственной функции в пределах конкретной территории.
Если же речь идет о выполнении публичными субъектами действий, носящих вспомогательный характер, статья 1065 ГК РФ может быть применена. К примеру, решением суда удовлетворены требования прокурора к администрации города о запрете эксплуатации здания многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу в связи с угрозой причинения вреда проживающим в нем лицам24. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, относятся к вопросам местного значения, однако этот вид деятельности не может быть признан основным для администрации города, прекращение эксплуатации аварийного здания не создаст препятствий для дальнейшей реализации органом местного самоуправления управленческих, исполнительных и контролирующих функций и не приведет к его фактической ликвидации.
Несмотря на сделанную попытку выявить общие условия применения статьи 1065 ГК РФ к субъектам с публичной составляющей, данный вопрос должен решаться в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств конкретного дела.
Список литературы Субъекты гражданских правоотношений по предупреждению причинения вреда
- Бондаренко С. С. Предупреждение причинения вреда (статья 1065 ГК РФ) // Современное право. 2008. № 8.
- Бухтоярова О. Защита интересов неопределенного круга лиц. Юридическая консультация. URL: http://zazakon.ru /pravovaya_infomaciya/ articles/grazhdanskoe_i_dogovornoe_pravo_prava_potrebitelej/zashita_interesov_ neopredelennogo_kruga_lic/ (дата обращения: 17.10.2019).
- Гусева Е. А. Предупреждение причинения вреда вследствие деятельности, представляющей повышенную опасность для окружающих, по гражданскому праву: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014.
- Гутников О. В. Деликтная ответственность за нарушение относительных прав: перспективы развития в российском праве // Закон. 2017. № 1.
- Ершов О. Г. Понятие и признаки гражданского правоотношения по предупреждению причинения вреда в строительстве // Гражданское право. 2011. № 4.
- Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949.
- Малеина М. Н. Запрет на приближение нарушителя к потерпевшему как гражданско-правовой способ защиты // Российская юстиция. 2019. № 6.
- Патуева О. Г. Неопределенный круг лиц: некоторые вопросы реализации права на обращение в суд // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 11.
- Туманов Д. А. Защита интересов неопределенного круга лиц (отдельные проблемы) // Труды Института государства и права РАН. 2017. Т. 12. № 6.
- Уксусова Е. Е. Дела о защите прав неопределенного круга лиц // Российская юстиция. 1997. № 11.
- Фирсова О. А., Дицевич Я. Б. Проблемы участия прокурора в гражданском процессе. Исковая работа прокурора. Иркутск, 2007.