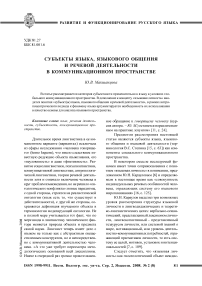Субъекты языка, языкового общения и речевой деятельности в коммуникационном пространстве
Автор: Макшанцева Юлия Викторовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается категория субъектности применительно к языку в условиях глобального коммуникационного пространства. В дополнение к концепту «языковая личность» вводятся понятия «субъект(ы) языка, языкового общения и речевой деятельности», в рамках антропоцентрического подхода к феномену языка аргументируется необходимость их использования в качестве основы для анализа языкового пространства.
Язык, речевая деятельность, субъектность, коммуникационное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/14969337
IDR: 14969337 | УДК: 81.27
Текст научной статьи Субъекты языка, языкового общения и речевой деятельности в коммуникационном пространстве
Длительное время лингвистика в ее имманентном варианте (вариантах) исключала из сферы исследования «человека говорящего» (homo loquens), что имело следствием известную редукцию объекта языкознания, его «неуловимость» и даже «фиктивность». Развитие социолингвистики, психолингвистики, коммуникативной лингвистики, антропологической лингвистики, теории речевой деятельности хотя и означало включение человека в круг проблем языковедения, но не решило «онтологического конфликта»: новые парадигмы, с одной стороны, строятся на реалистической онтологии (язык есть то, что существует в действительности), с другой же стороны, сохраняется дефиниция изучаемого объекта в терминологии моделирующей онтологии. Не в полной мере учитывается тот факт, что по мере ввода в лингвистику человеческого фактора меняется природа объекта и предмета самой науки. Лингвист теперь имеет дело с языком не только как с абстрактным овеществленным конструктом, но и непосредственно с коммуникативной деятельностью человека. «А это уже требует пересмотра методологических оснований всей дисциплины. Иначе в очередной раз громко провозглашен- ное обращение к говорящему человеку (курсив автора. – Ю. М.) останется нереализованным на практике лозунгом» [11, с. 24].
Предметом рассмотрения настоящей статьи являются субъекты языка, языкового общения и языковой деятельности (терминология В.С. Степина [15, с. 63]) как компоненты социального коммуникационного пространства.
В некотором смысле исследуемый феномен имеет точки соприкосновения с понятием «языковая личность» в понимании, предложенном Ю.Н. Карауловым [6] и определяемым в настоящее время как «совокупность индивидуальных речевых особенностей человека, отражающих систему его языкового миропонимания» [16, с. 125].
Ю.Н. Караулов выделил три возможных уровня рассмотрения структуры языковой личности в лингводидактических и теоретико-лингвистических целях: вербально-семантический, представленный лексиконом личности, лингвокогнитивный – представленный тезаурусом личности, или системой знаний о мире, мотивационный, или уровень деятельностно-коммуникативных потребностей, отражающий прагматикон личности, то есть систему ее целей, мотивов, установок и интенциональностей [7, с. 109].
Следует отметить, что «языковая личность» как гносеологический объект междис- циплинарного характера в настоящее время начинает рассматриваться в более широком социокультурном контексте. М.Д. Назарова развивает теорию языковой личности, основываясь на идее единства «философского, психологического, литературоведческого, лингвистического, культурологического, социологического подходов» [12, с. 3].
Содержание понятия дополняется концептами « национальная языковая личность» [4, с. 4]; « билингвальная личность» [3]; «языковая личность с обратной связью» [1, с. 6], «кооперативная языковая личность» [13] и т. д.
Развивается положение о многоуровневом, многоаспектном характере личности («Эго»), в том числе и языковой. Так, В.В. Красных пишет: «Я человека неоднородно; оно предстает как физическое Я; рациональное, интеллектуальное и волевое Я; ментальное; эмоциональное Я; и чувственно-мыслящий / мысленно-чувственный комплекс; деятельностное Я и под.» [9, с. 200].
Таким образом, выявляется объемный (пространственный) характер языковой личности, обладающей определенной совокупностью знаний и представлений, обретаемых в процессе социализации и находящих отражение в характере, интересах, социальных и культурных предпочтениях и установках.
Личность является представителем данной языковой общности, но учет только внешних воздействий неизбежно приводит к представлению о формировании некой идеальной личности. Она «подгоняется» под некую форму, модель. Нельзя не согласиться с позицией Р. Бендлера и его соавторов, которые считают, что нет никакой универсальной модели человеческого существа, что каждая личность имеет собственную модель своего собственного идеала. По мнению исследователей, это согласуется и с биологической уникальностью каждой личности. Модели в большинстве случаев в дальнейшем подменяют жизненный опыт личности, помещают ее в рамки определенных категорий, тогда как необходимо определить исходный уровень развития личности и побудить ее к созиданию. Модель должна помочь обучаемому полнее участвовать в изменениях, происходящих с ним, настроиться на процессы роста и изменений. А когда он видит, что игнорируют его возможности, он отключается от коммуникативного процесса, теряет веру в свои силы. Навязываемые модели ограничивают проявление свободы личности [1, с. 6].
В большинстве определений языковой личности выделяется активный, деятельностный аспект, что делает, на наш взгляд, необходимым дополнение концепта «языковая личность» понятием «субъект(ы) языка». Человек обнаруживает собственную историчность, многомерность своей эволюционности. С позиций антропоцентрической парадигмы важно выделение качества субъектности, когда носителями, выразителями и творцами социального качества оказываются сами люди, действующие как субъекты. Более того, речь идет о «персонализации масс, классов, групп», о «личностном оформлении различных сфер деятельности общества», когда увеличение количества «индивидуальных субъектов» переходит в качественный уровень «массового субъекта», выступающего также творцом [8, с. 147]. Как отмечает академик Ю.С. Степанов, «в настоящее время “проблема субъекта” характеризует весь комплекс гуманитарных наук» [14, с. 698]. Об активизации в человеческой деятельности энергетического аспекта в эпоху глобализации пишут и другие авторы (см.: [17]).
Если в случае использования понятия «языковая личность» выделяется эффект «социализации», то привлечение концепта «субъект(ы) языка» акцентирует внимание на самореализации личности.
Симптоматично, что понятие субъекта применительно к языку находит широкое применение в практике преподавания иностранных языков и других предметов в высшем и школьном образовании в рамках теории деятельностного обучения. И.Б. Ворожцова, со ссылкой на И.А. Зимнюю, пишет: «Среди деятельностных категорий главная – деятель (выделено автором. – Ю. М. ), который использует свои компетенции, общие и индивидуальные, коммуникативную компетентность, речевую способность» [5, с. 23].
Субъектность выдвигается на первый план в связи с требованием включения обучающихся в коммуникационное пространство.
Мы придерживаемся концепции трехуровневой социальной языковой субъектнос- ти: индивидуальный языковой субъект, коллективный языковой субъект, институциональный языковой субъект [2, с. 217; 10, с. 104]. Каждый из них выступает в социально-правовых отношениях в качестве лица. «“Физическое лицо” имманентно индивиду, “коллективное лицо” и имманентно и трансцендентно индивидам, составляющим коллектив, то есть одновременно и присуще им, и отлично от них, “абстрактное лицо” (то есть “сверхколлективное образование” – только трансцендентно индивидам и их сообществам, обособлено и отчуждено от них» [2, с. 217].
Тем самым преодолевается представление о противопоставлении индивидуальной и социальной жизни людей, когда самобытность индивида, его способность к самореализации (самодеятельности, самоизменению, самосовершенствованию или саморазрушению) выводилась за границы социальных взаимодействий.
Причину этого исследователи усматривают в «негативном» определении индивид-ности и индивидуальности (ср. количество названий: личность, субъект, индивид, индивидуум и пр.) в бытовой, научной и культурной традициях. Подобные характеристики гиперболизируют несоциальные, нефункциональные, непредметные аспекты бытия. В субъектном понимании и само общество предстает не как система абстракций, оно «“оживает”, вырастает в сложности и масштабах, “насыщается движением” и развитием разнообразных актов человеческой самореализации» [8, с. 105].
Социокультурные смыслы субъектности задаются индивиду обществом, но он их постоянно обновляет (пропуская через себя) в качестве знаков и символов, которые рождаются и воспроизводятся в процессе человеческой коммуникации и самореализации в языковом пространстве.
Список литературы Субъекты языка, языкового общения и речевой деятельности в коммуникационном пространстве
- Бендлер, Р. Семейная терапия/Р. Бендлер, Дж. Гриндер, В. Сатир. -Воронеж: НПО «МОДЭК», 1993. -128 с.
- Быченков, В. М. Институты: сверхколлективные социальные образования и безличные формы социальной субъективности/В. М. Быченков. -М.: Рос. акад. соц. наук, 1996. -976 с.
- Вафеев, Р. А. Лингвистические основы формирования двустороннего билингвизма (фонетический аспект)/Р. А. Вафеев//Духовные ценности и национальные интересы России. -Тюмень: Изд-во Тюмен. госун-та, 1998. -С. 118-123.
- Воробьев, В. В. Сопоставительное изучение концепта «Национальная личность» в лингво-культурологическом аспекте/В. В. Воробьев//Русский язык и культура (изучение и преподавание): материалы конф. -М.: ЕКОН, 2000. -С. 3-4.
- Ворожцова, И. Б. К проблеме изучения профиля обучающегося/И. Б. Ворожцова//Материалы научно-методической конференции «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков на неязыковых факультетах высших и средних специальных заведений», проведенной в рамках мегапроекта «Развитие образования в России» при поддержке Института «Открытое общество. Фонд Содействия», 12-14 апр. 2000 г.-Ижевск: Издат. дом «Удмурт. ун-т», 2000.
- Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность/Ю.Н.Караулов. -М.: Наука, 1987. -263 с.
- Караулов, Ю. Н. Текстовые преобразования в ассоциативных экспериментах/Ю. Н. Караулов//Язык, система и функционирование: сб./отв. ред. Ю. Н. Караулов. -М.: Наука, 1988. -С. 108-116.
- Кемеров, В. Е. Введение в социальную философию: учеб. пособие для гуманит. вузов/В. Е. Кемеров. -М.: Аспект Пресс, 1996. -215 с.
- Красных, В. В. Русское культурное пространство: концепт «Я»/В. В. Красных//Проблема вербализации концептов в семантике языка и текста: сб.: материалы междунар. симп., Волгоград, 22-24 мая 2003 г. В 2 ч. Ч. 1. Научные статьи. -Волгоград: Перемена, 2003. -С. 196-200.
- Майоров, А. П. Социальные аспекты взаимодействия языков в билингвистическом коммуникативном пространстве/А. П. Майоров. -Уфа: Изд-во БГМУ, 1997.
- Макаров, М. Л. Основы теории дискурса/М. Л. Макаров. -М.: ИТДК «Гнозис», 2003. -280 с.
- Назарова, М. Д. Язык как средство социализации личности в современном информационно-гуманитарном образовательном пространстве (на основе Технологии продуктивного успеха): автореф. дис.... канд. пед. наук/М. Д. Назарова. -Уфа, 2000. -23 с.
- Ничипорова, Е. А. Кооперативная языковая личность в открытом коммуникативном эпизоде: автореф. дис.... канд. филол. наук/Е. А. Ничипорова. -М., 1999. -22 с.
- Степанов, Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка/Ю. С. Степанов. -М.: Яз. рус. культуры, 1998. -784 с.
- Степин, В. С. Культура/В. С. Степин//Вопросы философии. -1999. -№ 8. -С. 61-80.
- Хайруллина, Р. Х. Лингвистика межкультурных коммуникаций: курс лекций/Р. Х. Хайруллина. -Уфа: Изд-во БГПУ, 2005. -138 с.
- Швецов, Е. В. Рец. на кн.: Быченков В.М. Институты: сверхколлективные социальные образования и безличные формы социальной субъективности. -М.: Рос. акад. соц. наук, 1996. -976 с./Е. В. Швецов//Вопросы философии. -1998. -№ 8. -С. 176-179.