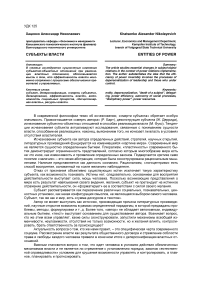Субъекты власти
Автор: Хаценко А.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются сущностные изменения субъектно-объектных отношений при реализации властных отношений, обосновывается мысль о том, что эффективность власти неизменно сопряжена с процессами обезличивания правителей и управляемых.
Субъект, деперсонификация, "смерть субъекта", делегирование, эффективность власти, автономность социальных процессов, "дисциплинарная власть", ресурсы власти
Короткий адрес: https://sciup.org/14940991
IDR: 14940991 | УДК: 125
Текст научной статьи Субъекты власти
В современной философии тезис об исчезновении, «смерти субъекта» обретает особую значимость. Провозглашается «смерть автора» (Р. Барт), деконструкция субъекта (Ж. Деррида), исчезновение субъектно-объектных отношений в способах реализации власти (М. Фуко). Тенденции исчезновения субъекта актуализируют исследования, связанные с пониманием сущности власти, способами ее реализации и, наконец, выяснением того, не исчезает ли власть в условиях отсутствия властителей.
Исчезновение субъекта как автора определенных действий, стратегий, научных открытий, литературных произведений фундируется на изменившейся «картине мира». Современный мир не является сущностно определенным бытием. Плюрализм, «пластичность» современного бытия демонстрирует ограниченность представлений, согласно которым многообразие мира есть не что иное, как изменчивость и проявление определенных законов. Подвергается критике само понятие «наличие» - это некая абстракция, которая была сконструирована рациональным мышлением. Наличие представляется как данность сознанию. Рационализм, «логоцентризм» есть способ восприятия, основанный на «силе желания» наблюдателя.
Отказ от признания объективно существующих истин исключает такую характеристику субъекта, как возможность познавать. Истины нет, следовательно, основанием для восприятия действительности выступает сила, мощь человека. Поскольку возникающие представления о мире есть результат навязывания своего видения, желания, субъект не претендует на истинное отражение действительности, он «форматирует» ее в соответствии с силой своего желания.
Субъект рассматривается как пересечение различных социальных, познавательных, ценностных установок, как некая конфигурация смыслов, не являющаяся выбором самого человека. Субъект, так же как и мир, есть «сумма дискурсов и текстов».
Автор не может выступать как источник, производящая причина литературных произведений, научные открытия возможны в рамках определенной парадигмы, в которой предзаданы проблемы, методы, формулировки и т. д. Более того, «автор» не обладает автономным, индивидуальным бытием, «текст» выступает основанием для существования автора. Возникает вопрос, кто же этим всем управляет, какие силы сконструировали, запустили механизмы всеобщей изменчивости, неуловимости, отсутствия не только возможности, но и желания влиять, контролировать, брать ответственность за происходящее?
Актуальность вопроса о том, кто же нами правит, - это специфическая черта современного социума. Рассмотрение власти как результата общественного договора и стремление соблюсти права и свободы каждого человека привели в конечном итоге к деперсонификации властных отношений.
Важным становится вопрос о том, что ждет человека в условиях действия обезличенных механизмов власти и не является ли стремление к установлению порядка, законов «естественной справедливости» условием для крушения возможности управлять и контролировать, а главное, планировать и прогнозировать.
Одним из важнейших механизмов развития демократических процессов, позволяющих реализовать законы «естественной справедливости», является делегирование: социальная группа передает часть своих полномочий определенному избранному лицу, с тем чтобы делегат представлял интересы группы во властных структурах.
Современный исследователь, социолог, автор работы «Делегирование и политический фетишизм» П. Бурдье указывает на то, что не только возможность участия группы во властных отношениях, но и само ее (группы) существование основывается на возможности выражать свои интересы [1]. Выразителями групповых идей становятся некоторые из ее представителей, которых группа наделяет особыми полномочиями, то есть делегирует. Необходимо отметить, что процесс делегирования – это единственный механизм, позволяющий группе заявить о себе. Группа отказывается от своих прав в пользу какого-то представителя в обмен на то, чтобы заявить о себе, быть услышанной. То есть представительство имеет «изначально круговой характер» – существование группы обусловлено наличием делегатов, а делегирование наличествует благодаря существованию группы [2, c. 242].
Между тем делегаты в процессе получения ими полномочий от целой группы людей обретают особый статус, они, возвышаясь, дистанцируются от остальных членов группы. Люди, чтобы быть услышанными, иметь возможность заявить о своих правах, объединяются в группы, а затем избирают своих делегатов, которые должны будут представлять их интересы. Для того чтобы быть услышанным, необходимо «доверить другим право говорить от своего имени» [3, с. 239].
Немаловажным является то, что делегированные, становясь выразителями интересов группы, постепенно начинают самостоятельно принимать решения о том, какие проблемы требуют первостепенного решения, формируют цели и определяют стратегии дальнейшего развития группы. Дистанцирование от остальных членов группы основывается на уверенности в том, что избранные делегаты более компетентны, обладают бо̀ льшим количеством информации, умениями правильно сформулировать и выразить интересы остальных членов группы.
Подобного рода «узурпирование» интересов группы возникает не только из-за субъективных особенностей делегатов (тщеславие, непрофессионализм, честолюбие), но имеет под собой вполне реальные основания. Привычка говорить за кого-то, перестающая в практически «…есте-ственную склонность говорить вместо…», возникает в силу того, что делегат изначально был готов раствориться в группе, отождествить ее интересы со своим «я» [4, с. 237]. «Я становлюсь Всем, когда Я превращаюсь в Ничто, и именно потому, что Я способен превратиться в Ничто, раствориться, забыть себя, пожертвовать собой, посвятить себя. Я только доверенное лицо Бога или Народа; но то, от имени чего Я выступаю, является Всем, и потому Я – Все» [5, с. 246].
Таким образом, происходит манипулирование группой от имени самой этой группы, так как она наделила авторитетом и дала право осуществлять над ней насилие определенному представителю. Следовательно, логика процессов делегирования указывает на то, что интересы, истинные цели группы не могут быть адекватно представлены, они всегда искажаются.
Однако для нашего исследования наиболее значимым является вывод о том, что, подчинив себе группу, лишив ее возможности участвовать во властных отношениях, сам делегат субъектом власти не является. П. Бурдье подчеркивает: «…легитимное лицемерие только потому и оказывается успешным, что узурпатор – не расчетливый циник, сознательно обманывающий народ, а человек, совершенно искренне принимающий себя за нечто другое, чем он есть» [6, с. 252]. Парадоксальным является то, что и бескорыстное служение другим не позволяет реализовать ни свои собственные интересы, ни интересы группы. Следуя за размышлениями П. Бурдье, укажем, что и делегаты, и члены группы, искренне стремясь к выражению своих интересов, оказываются вовлеченными «…в игру и действительно верят в то, что делают» [7, с. 254]. Никто не властвует, все существуют в предложенных условиях, являясь «носителем» и выразителем той позиции, которую они занимают в сформированных структурах.
Следует отметить, что обезличенность, деперсонификация возникла в результате осуществления высокотехнологичных действий людей. Активность субъекта, понимаемая как возможность достичь цели, на основе познанных объективных законов привела к возникновению ситуаций, при которых люди «…утратили контроль над собственными действиями, они участвуют в некотором объективном процессе, подчиняясь его нормам и правилам» [8]. Человек оказывается вовлеченным в различные виды деятельности, глобальные процессы, которые, являясь результатом деятельности людей, оказывают мощное влияние на человека, формируя его.
Автономность высокотехнологичных процессов, позволяющих добиться высокой степени эффективности, подчиняет своей логике развитие человека. «Захватываются» структуры языка и мышления, технологии общения и формы поведения, формируются цели и потребности.
Тем самым индивид, субъект познания становится условием для реализации, проявления автономных, подчиненных собственной логике процессов. Реализация властных отношений в условиях современного мира заключается в том, что человеком не управляют, а формируют, «продуцируют» «послушное тело». Вместе с тем управление осуществляется не определенной группой людей, а представляет собой хорошо отлаженный механизм. Следовательно, власть реализуется не в действиях диктаторов, стратегов, филантропов и т. д. – власть реализуют множество автоматических, анонимных операций.
Таким образом, провозглашение «смерти субъекта», обезличенность, деперсонификация властных отношений проявляется не только в том, что высокая степень эффективности власти обезличивает и формирует людей с заданным набором ценностей, целей, стратегиями поведения, потребительскими пристрастиями, но еще и в том, что высокая результативность властных отношений становится возможной в условиях, при которых «правитель» является не «сувереном», а скорее посредником для осуществления механизмов правления.
Ссылки:
-
1. Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 336 с.
-
2. Там же. С.242.
-
3. Там же. С.239.
-
4. Там же. С.237.
-
5. Там же. С.247.
-
6. Там же. С.252.
-
7. Там же. С.254.
-
8. Димитрова С.В. Критерии «Успешных действий» // Успехи современного естествознания. 2013. № 12.
Список литературы Субъекты власти
- Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 336 с
- Димитрова С.В. Критерии «Успешных действий»//Успехи современного естествознания. 2013. № 12