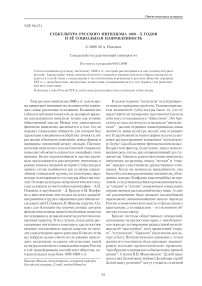Субкультура русского нигилизма 1860-х годов и её социальная направленность
Автор: Ицкович М.А.
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 6-1 т.11, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена русскому нигилизму 1860-х гг., который рассматривается как социокультурное явление. Характерные черты нигилистического сознания и нигилистического образа жизни исследуются в тесной связи с социальными и политическими переменами в русском обществе середины XIX в., с потребностями, интересами, ценностями складывающегося в этот период слоя разночинной интеллигенции.
Россия xix в., нигилизм, разночинцы, интеллигенция, субкультура
Короткий адрес: https://sciup.org/148198835
IDR: 148198835 | УДК: 94(47)
Текст научной статьи Субкультура русского нигилизма 1860-х годов и её социальная направленность
Тема русского нигилизма 1860-х гг. долгое время привлекает внимание исследователей и порождает самые различные толкования. Большинство учёных и публицистов вплоть до недавнего времени рассматривали нигилизм только как течение общественной мысли. Между тем, уникальность феномена нигилизма заключается в том, что он породил социальную общность, для которой был характерен совершенно особый тип личности, образ жизни и бытового поведения, новые формы и принципы отношений между людьми. Поэтому изучение нигилизма с идеологической стороны не позволяет объяснить сущность и специфику этого явления. Более перспективным и научно значимым представляется рассмотрение нигилизма в рамках социокультурной истории. Субкультура в данном случае понимается как культура определённой социальной группы, по некоторым параметрам отличающаяся от культуры общества в целом. Основы культурно-антропологического подхода заложили в советской историографии – А.И. Новиков, в зарубежной – Д. Брауэр и М. Конфи-но, а впоследствии этот подход получил дальнейшее развитие в трудах современных российских исследователей И. Паперно, В. Живова и других. Однако для большинства перечисленных авторов феномен нигилизма является побочным сюжетом исследования, и их анализ носит недостаточно конкретный характер. В тех случаях, когда автор рассматривает нигилизм в комплексе, как целостное явление, поставленные задачи зачастую не находят удовлетворительного решения. В связи с этим мы избрали целью своего исследования проследить механизмы создания нигилистами своей культуры в контексте социальной истории России и той трансформации российского общества, которая началась на рубеже 1850-1860-х гг.
В самом термине “нигилизм” подчёркивается начало отрицания, протеста. Главным признаком возникшей субкультуры было то, что её представители намеренно противопоставляли себя тому, что называлось “обществом”. Это бросалось в глаза, поэтому их и называли “нигилистами” – раз они отрицают наши принципы, наши ценности, нашу культуру, значит, они отрицают всё . В зарубежной историографии получила широкое распространение концепция “молодёжного бунта” как объяснение феномена нигилизма1. Возрастной фактор, безусловно, играл немаловажную роль, так же, как и корпоративный дух студенчества. Однако к родителям своим нигилисты относились по-разному, между “детьми” и “отцами” нередко существовали дружественные отношения. Когда же возникала враждебность, она была обусловлена различиями в ценностях, убеждениях, идеалах. Конфликт поколений был не причиной, а следствием идейного размежевания между “отцами” и “детьми”, выражением социальных и нравственных расхождений между ними. А само это размежевание было вызвано масштабными переменами, ознаменовавшими начало перехода России в экономическом смысле от феодализма к капитализму, а в социальном – от сословного общества к классовому.
Кризис системы общественных отношений, основанных на крепостном праве, с неизбежностью породил и отвержение радикальной молодёжью всей “надстройки”, всех проявлений “старого”, “господского”, “барского” в идеологии, в культуре, в быту. Нигилистическое движение, с точки зрения его участников, было призвано ликвидировать наследие крепостнического прошлого, “преобразовать привычки и обычаи повседневной жизни”2. Строки В.В. Маяковского: “Долой ваше искусство! Долой вашу любовь! Долой ваш строй! Долой вашу религию!” могут служить отличной иллюстрацией к нигилизму 1860-х гг. Все их “долой” были обусловлены тем, что искусство, мораль, религия, этикет служили классу, который жил за счёт безвозмездного труда и угнетения крепостных крестьян. Раз вся система социальных отношений безнравственна и не имеет морального права на существование, значит, нужно отвергнуть всё, что хоть как-то связано с ней.
Главная мотивация нарочитого “опрощения” в быту и нравах, свойственного нигилистам, прослеживается достаточно отчётливо: стремление жить, выглядеть, вести себя “не как они”, не как дворянское общество. “Барские привычки”, “чи-новалы и чинодралы”, “кисейные барышни” – вот те образы, от которых отталкивались нигилисты, строя свою модель бытовой жизни. Это отталкивание ярко проявилось, например, в сфере одежды. Современники выделяют две главных причины, породившие “демократическую моду”: желание “ни в чём не походить на презренных филистёров” и “открыто выставить свою принадлежность к сонму избранных”6. В сущности, одно вытекает из другого. Б.Ф. Поршнев отмечал, что для любой общности негативизм по отношению к “ним” усиливает групповую сплочённость, “отличение вовне стимулирует уподобление внут-ри”7. Роскошь была признаком “чужого”, и уже в силу этого она объявлялась безнравственной или бесполезной (что в свете теории разумного эго- изма одно и то же). Сами для себя нигилисты объясняли своё поведение сознательным различением подлинных и мнимых потребностей или нравственными соображениями. Но это объяснение, на наш взгляд, является скорее рационализацией, а подлинным мотивом было желание почувствовать свою принадлежность к сообществу “новых людей”. Самоограничение не приносило им дискомфорта именно потому, что компенсировалось чувством собственной значимости.
В наибольшей мере революционизирующее влияние нигилизма, его разрыв с традиционной культурой проявились в сфере взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Нигилист желал видеть в женщине прежде всего “товарища, человека, а не куклу, не кисейную барышню”9. Характерные высказывания самих нигилисток свидетельствуют, что “освобождение женщины” понималось ими как самоосвобождение от всего, что принято считать “специфически женским”: чрезмерного внимания к одежде и внешнему виду, пассивности, несамостоятельности10. В их одеждах, манерах, образе жизни проявлялось иное представление о своей социальной роли. Девушки-нигилистки стремились к экономической независимости, к знаниям, необходимым для овладения интеллигентными профессиями, к активной общественной деятельности. Когда эти стремления наталкивались на сопротивление родителей, приходилось прибегать к фиктивному браку для того, чтобы обрести юридическую свободу. С течением времени он стал намного большим, чем “крайней мерой”. В идее и практике фиктивного брака в наивысшей степени проявилось новое отношение к женщине как к товарищу, а не как к “объекту любви”. Официальный же, церковный брак признавался полезным только в том случае, когда был фиктивным, а сам по себе он считался “устарелым институтом”, инструментом насилия над человеческими чув- ствами11. Связь между мужчиной и женщиной должна быть основана только на взаимной любви и безусловно предполагать равенство полов, в том числе и равное право на отделение друг от друга, считали нигилисты.
Инициатива в утверждении новой этики и нового образа жизни шла от разночинной молодёжи. Радикальный поворот в общественном сознании, последовавший после поражения России в Крымской войне, давал разночинцам отличную возможность преодолеть свои социально-психологические комплексы. Те черты, которые прежде воспринимались ими как унизительные – бедность, незнатное происхождение, отсутствие хороших манер – в новой ситуации были переосмыслены ими как достоинства, как знак непричастности к старой дворянской элите. Сама эта элита тоже испытывала кризис, как экономический, так и культурный. Многие дворяне разорялись, утрачивали привычные источники дохода и возможность вести привычный дворянский образ жизни, а их дети испытывали потребность компенсировать утрату своего социального статуса. Другие сами стремились отмежеваться от своего элитарного положения, которое в значительной мере потеряло свой престиж в свете начавшихся реформ. И в том и в другом случае они, так же, как и образованные разночинцы, оказывались в неустойчивом, маргинальном положении. В сложившейся ситуации специфически разночинские черты – такие, как подчёркнутая простота быта и бесцеремонность нравов – стали сознательно воспроизводиться дворянскими детьми как знак протеста против всей социальной системы.
Так, “хорошие манеры”, бывшие для дворян признаком их социального статуса, были недоступны и непонятны разночинцам, воспринимались ими как признак “чужой”, “враждебной” культуры, как символ социально несправедливого, иерархического общества, в котором они считались “людьми второго сорта”. Скромный образ жизни и необходимость труда, естественные для разночинцев, получили теоретическое обоснование, были возведены в добродетель и стали предметом гордости. Даже такая экзотическая для России середины XIX в. идея, как равноправие женщин, имела корни в социальном положении интеллигентов-разночинцев. Для них найти подругу жизни, разделявшую их убеждения и интересы, было серьёзной проблемой, поскольку они были чужаками и в дворянском обществе, и в среде низших и средних слоёв общества, из которой вышли. Логическим выходом из этой ситуации было отрицание всех “условностей” в общении между полами и требование работы и образования для женщин.
В противовес прежним представлениям о предопределённости человеческой судьбы, о необходимости следовать требованиям своей социальной роли, нигилисты выдвинули поистине революционную идею сознательного конструирования человеческой личности. Все отрицательные человеческие качества являлись, с их точки зрения, не объективной данностью, а следствием влияния “той почвы, которая нас выкормила, понятий того общества, в котором мы развились и жили”12, и, значит, могли быть преодолены путём самовоспитания. Причём выработка в себе качеств “нового человека” воспринималась как личностная, сугубо индивидуальная задача, не как насилие над собой, а как “очистка” себя от свойств и качеств, воспитанных “средой”.
Отсюда и та огромная роль, которая отводилась знанию и науке в нигилистической субкультуре. Получив образование, открывшее перед ними новые горизонты, разночинцы не хотели иметь ничего общего со средой, из которой они вышли. Образование для них было средством продвинуться по социальной лестнице, фактором социальной мобильности. Поэтому разночинная интеллигенция стала относиться к знанию “как к абсолютной, всеразрешающей силе”14. При этом господствовал утилитарный подход к знанию, как к естественнонаучному, так и гуманитарному. Ценилось не “знание вообще”, не “чистая наука”, а знание как средство содействия социальному прогрессу. Нигилистическому сообществу, как отмечали враждебно настроенные современники, была свойственна “гордость своим умом и просве-щением”15. Важно отметить, что тяга к познанию обычно сочетается в описании нигилистов и нигилисток с равнодушием к материальным благам. Интеллектуальный труд как один из отличительных признаков “мыслящих реалистов” противопоставлялся праздности и сибаритству, характерному для “высших классов”, самоограничение и аскетизм – стремлению к наживе16.
Если вначале складывание новой субкультуры шло стихийно, то затем идеологами нигилизма была сформулирована целостная система представлений о том, как должен жить и мыслить “новый человек”. Скромность в быту, трудолюбие, показная небрежность в одежде, прямота в общении, неприятие традиций, вера в силы и разум человека – все эти черты, родившиеся как отражение социального опыта разночинцев, стали сознательно и целенаправленно культивироваться. В совокупности они образовывали определённый идеал, выстроенный по контрасту с элитарной культурой. Переустройство своей жизни в соответствии с требованиями “полезности” служило в их глазах моральным оправданием их бунта против “отцов” и укрепляло коллективную солидарность радикальной молодёжи.
Как мы видим, источником формирования нигилистической субкультуры было чувство отчуждения и неприязни молодых интеллигентов-разночинцев ко всему социальному строю Российской империи, к господствующей элите и её образу жизни, к обществу, в котором человек ценился по его происхождению и богатству, а не по заслугам и способностями. Вопросы переустройства данного общества были для них первостепенными, а главным критерием оценки любых явлений стала “общественная польза”, совпадавшая с целями этого переустройства. Однако в силу того, что возможности политического действия были ограничены, желание перемен выражалось в форме создания собственной культуры. Таким образом, нигилизм можно рассматривать как культурную форму социального протеста . Поэтому обвинения нигилистов в “индивидуализме” и “аполитичности”, которые им предъявляли некоторые современники и историки, вряд ли справедливы17. Этот “индивидуализм”, то есть сосредоточенность на строительстве собственной жизни согласно определённым принципам, был “социальным” по своей природе, возникал из нереализованного желания преобразовать общество.
В первой половине 1860-х годов относительная массовость нигилистического движения была обусловлена тем, что для многих оно стало не только формой сознательного протеста, но и своеобразной “модой”. На фоне разочарования в официальной культуре вполне объяснима привлекательность “неофициальной”, альтернативной, протестной культуры, принадлежность к которой давала молодым людям столь недостающее им чувство собственной значимости, своего избранничества и нравственного превосходства. Такая ситуация и обусловила широкое, но не всегда глубокое распространение нигилизма. Если у “настоящих нигилистов” жизненное поведение было естественным следствием выработанных принципов, то у многих молодых людей принадлежность к нигилизму ограничивалась внешними признаками, проявлялась в заимствовании отдельных элементов нигилистического “стиля жизни”.
Тем не менее, создаваемая культурная среда служила питательной почвой для функционирования и развития революционного движения. И правительство, принимая с конца 1860-х годов жёсткие меры против нигилизма и политического радикализма, фактически ставило знак равенства между этими явлениями. В результате часть нигилистов предпочла расстаться с увлечениями юности, ограничив свои устремления профессиональной карьерой. Другие, напротив, сосредоточились на политической борьбе, тем самым подтверждая правительственную точку зрения. Эволюция нигилистической субкультуры требует отдельного изучения в неразрывной связи с социальными, экономическими, политическими и культурными переменами в русском обществе второй половины XIX в.
Список литературы Субкультура русского нигилизма 1860-х годов и её социальная направленность
- Confino M. Revolte juvenile et contre-culture. Les nihilistes russes des «annees 60»//Cahiers du monde russe et sovietique. Paris, 1990. -Vol. 31(4). P.506-508
- Gleason A. Young Russia: The Genesis of Russian Radicalism in the 1860's. -NY: The Viking Press, 1980. -P.119-120.
- Кропоткин П.А. Записки революционера. -М.: Мысль, 1990. -С.267
- Водовозова Е.Н. На заре жизни. В 2 т. Т.2. -М.: Художественная литература, 1987. -С.205-207.
- Confino M. Op.cit. -P.519
- Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты. Опыт критической характеристики. -Л.: Лениздат, 1972. -С.19, 267
- Шоломова Т.В. Эстетика русского нигилизма (1860-1880-е годы). Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук (09. 00. 04). -СПб., 1999. -С.9.
- Писарев Д.И. Мыслящий пролетариат//Писарев Д.И. Избранные произведения. -Л.: Художественная литература, 1968. -С.391.
- Кропоткин П.А. Там же. -С. 267.
- Скабичевский А.М. Литературные воспоминания. -М.: Аграф, 2001. -С.291.
- Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. -М.: Наука, 1979. -С.116.
- Ковалевская С.В. Нигилистка//Ковалевская С.В. Избранные произведения. -М.: Советская Россия, 1982. -С.179.
- Кропоткин П.А. Там же. -С.268.
- Чернышевский Н.Г. Полемические красоты//Современник. -СПб., 1861. -№6. С.464-465
- Юкина И.В. Нигилистки//Женщины в социальной истории России. -Тверь: Тверской государственный университет, 1997. -С.50-51
- Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860 1930. -М.: РОССПЭН, 2004. -С.154-155;
- Rosenholm A. The woman question of the 1860's and the ambiguity of the 'learned woman'//Gender and Russian literature: new perspectives. -Cambridge: Cambridge University Press, 1996. -Р.116.
- Ковалевская С.В. Нигилист//Ковалевская С.В. Избранные произведения. -М.: Советская Россия, 1982. -С.281
- Утин Н.И. Пропаганда и организация. Дело прошлое и дело нынешнее//Литературное наследство. -Т.87. -М.: Наука, 1977. -С.389
- Кропоткин П.А. Указ. соч. -С.267; Водовозова Е.Н. Указ. соч. Т.2. -С.104.
- Писарев Д.И. Реалисты//Писарев Д.И. Избранные произведения. -Л.: Художественная литература, 1968. -С. 282.
- Тургенев И.С. Накануне. Отцы и дети. -М.: Художественная литература, 1980. -С.175-176
- Помяловский Н.Г. Мещанское счастье. Молотов. Очерки бурсы. -М.: Художественная литература, 1987. -С.8.
- Воровский В.В. Базаров и Санин. Два нигилизма//Воровский В.В. Статьи о русской литературе. М.: Художественная литература, 1986. -С. 234.
- Страхов Н.Н. Письма о нигилизме//Русская социально-политическая мысль XIX -начала ХХ веков: В.А. Зайцев./Науч.ред. Ширинянц А. А., сост. Андронов Ю. В., Воробьев А. В., Ермашов Д. В. -М.: Воробьёв А.В., 2000. -С.195.
- Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. -М.: Издательство АН СССР, 1961. -С. 94, 210
- Водовозова Е.Н. Там же. Т.2. -С. 8-9, 76.
- Степняк Кравчинский С.М. Подпольная Россия//Степняк Кравчинский С.М. Сочинения в 2 т. Т.1. -М.: Художественная литература, 1987. -С.342
- Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции//Мыслители русского зарубежья: Бердяев, Федотов. -СПб.: Наука, 1992. -С.290-292
- Confino M. Op. cit. -P.505-506.