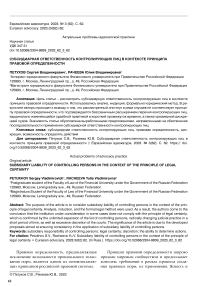Субсидиарная ответственность контролирующих лиц в контексте принципа правовой определенности
Автор: Петухов Сергей Владимирович, Рачеева Юлия Владимировна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - рассмотреть субсидиарную ответственность контролирующих лиц в контексте принципа правовой определенности. Использовались анализ, индукция, формально-юридический метод. В результате авторы приходят к выводу о том, что рассмотренный институт в ряде случаев не соответствует принципу правовой определенности, что подтверждается безграничным расширением перечня контролирующих лиц, кардинально изменяющейся судебной практикой в короткий промежуток времени, а также чрезмерной дискрецией судов. Значимость статьи обусловлена выработанными предложениями, направленными на обеспечение последовательности применения субсидиарной ответственности контролирующих лиц.
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц, правовая определенность, дискреция, возможность определять действия
Короткий адрес: https://sciup.org/140298614
IDR: 140298614 | УДК: 347.51 | DOI: 10.52068/2304-9839_2023_62_3_62
Текст научной статьи Субсидиарная ответственность контролирующих лиц в контексте принципа правовой определенности
Правовая определенность, предполагающая исключение возможности произвольного толкования норм, является одним из основополагающих принципов российской правовой системы.
Принцип правовой определенности широко признан мировым сообществом и предполагает комплекс требований в рамках процесса создания правовых норм, их применения. Ясность и
недвусмысленность регулирования являются неотъемлемым элементом для реализации конституционных положений, выступающих основой российской правовой системы. И.А. Покровский указывал, что «право на определенность правовых норм есть одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности» [1, с. 91].
По мнению исследователей, принцип правовой определенности не имеет исчерпывающих критериев оценки, но распространяется на все сферы и институты правового регулирования [2].
Юридическая ответственность, будучи одним из самых значимых институтов гражданского права, должна в полной мере соответствовать данному принципу. Обеспечение ее воплощения в гражданском обороте является обязанностью федерального законодателя.
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц предполагает возможность изъятия из принципа ограниченной ответственности в корпоративных правоотношениях. Обязанность отвечать по обязательствам прекратившего деятельность юридического лица следует за недобросовестные или неразумные действия (бездействия), в результате которых были нарушены имущественные права кредиторов. Представленное исключение из общего правила должно использоваться в ограниченном перечне случаев, лишь в ситуациях злоупотребления конструкцией юридического лица.
Примечательно, что даже в рамках конструирования норм, заложенных в основу рассматриваемого института, законодателем использованы разные понятия. В статье 53.1 ГК РФ, посвященной ответственности органов управления, отсутствует упоминание о контролирующих лицах, используется модель лица, имеющего фактическую возможность определять действия юридического лица, в то время как в правоотношениях в сфере банкротства закреплена конструкция контролирующего должника лица.
Перечень субъектов, признаваемых контролирующими лицами и привлекаемых к субсидиарной ответственности, не является закрытым, что приводит к возникновению судебных споров, связанных с привлечением к субсидиарной ответственности в качестве контролирующего лица главного бухгалтера, членов органов управления, юристов организаций, признанных банкротом, и т. д. В большинстве случаев суды отказывают в привлечении бухгалтера к ответственности ввиду отсутствия у него возможности определять действия должника (Определение ВС РФ от 27.11.2019 № 305-ЭС19-21244 по делу № А40-161770/2014). Ис- ключение составляют случаи включения главным бухгалтером заведомо недостоверной информации в документы общества. Еще большие вопросы вызывают попытки привлечения юристов в качестве контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Так, предметом рассмотрения в одном из дел было перечисление денежных средств юристу, что, по мнению суда, не может являться обстоятельством, доказывающим статус контролирующего лица (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-1104/2019 по делу № А40-151891/14). Учитывая представленную тенденцию, очевидным является учет повышенных стандартов добросовестности [3].
Кроме того, несостоятельной представляется возможность признания в рассматриваемом ключе лиц, представляющих юридическое лицо по доверенности. В данном случае ключевым аспектом выступает правовая связь такого лица с обществом, а также в целом объем полномочий представителя.
Помимо этого, в целях определения статуса контролирующего лица используется модель возможности давать обязательные указания для должника. С одной стороны, предполагается наличие такой возможности при условии владения более чем половиной долей уставного капитала или голосов в общем собрании участников (акционеров). С другой – закрепляется отсутствие статуса контролирующего лица для владеющих менее 10 % уставного капитала лиц в качестве самостоятельного основания для его установления. В этой связи возникает вопрос, как оценивать возможность определять действия должника лиц, обладающих от 10 % до 50 % долей уставного капитала. Представляется, что в таком случае должен учитываться порядок принятия управленческих решений в тот период времени, который привел к нарушению прав кредиторов.
Вряд ли текущие положения Закона о банкротстве с присущими им правовыми презумпциями могут рассматриваться как обеспечивающие соблюдение принципа правовой определенности. Указанное проявляется сразу в целом ряде аспектов:
-
1. Использование огромного объема оценочных критериев, «каучуковых» норм (возможность определять действия, существенность вреда имущественным правам кредиторов, существенное затруднение процедур банкротства и т. д.);
-
2. Признание целого ряда факторов, прямо не связанных с финансовым положением должника, в качестве обстоятельств, доказывающих невоз-
- можность удовлетворения требований кредиторов. Так, возникает вопрос, каким образом невне-сение обязательных сведений в ЕГРЮЛ влияет на неисполнение обязательства должника (пп. 5 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве).
Одновременно происходит расширение перечня субъектов, признаваемых контролирующими лицами, не только в правоприменительной практике, но и непосредственно в Законе о банкротстве. Следуя вектору ужесточения регулирования финансовых организаций, законодатель предусмотрел возможность установления статуса контролирующих лиц таких субъектов Банком России, который с 2021 года уполномочен вести соответствующий перечень контролирующих лиц. В результате возникает вопрос о возможности оспорить статус в судебном порядке уже непосредственно в процедуре банкротства финансовой организации.
Правовая определенность тесным образом связана с принципом состязательности, предполагающим «установление объективной истины и справедливости вынесенного судебного решения» [4]. В этой связи оценка действий контролирующих лиц должна включать в себя установление их роли в банкротстве юридического лица.
Отсутствие правовой определенности проявляется в противоречивости субсидиарной ответственности контролирующих лиц на основании п. 3.1 статьи 3 Закона об ООО, наступающей в случае исключения общества из ЕГРЮЛ в административном порядке при условии невозможности исполнения его обязательств ввиду их недобросовестных или неразумных действий.
Показательной для данного вопроса является практика ВС РФ. Так, в 2020 году он исходил из обязанности заявителя доказать причинно-следственную связь между действиями контролирующего лица и невозможностью погашения долга (дело № А21-15124/2018). В 2022 году ВС РФ отмечал необоснованность возложения в полном объеме обязанности доказывать недобросовестное или неразумное поведение (Определение от 31.05.2022 № 44-КГ22-2-К7, 2-4469/2020). Более того, в 2023 году ВС РФ пошел еще дальше, указав на переход бремени доказывания на контролирующих лиц в случае представления заявителем убедительной совокупности косвенных доказательств (дело № А56-64205/2021). Бенефициарами подобных изменений, безусловно, являются кредиторы, необходимость доказывания для которых существенно снизилась. Показательно, как при отсутствии каких-либо изменений в законодательстве субсидиарная ответственность контролирующих лиц «существенно трансформируется под влиянием правоприменительной практики» [5, с. 295].
В результате существует двоякая ситуация. С одной стороны, законодателем и правоприменителем обеспечена правовая определенность в виде создания максимально благоприятного для кредиторов института субсидиарной ответственности контролирующих лиц. С другой – сформированный механизм органично не вписывается в систему правового регулирования, устанавливая чрезмерную дискрецию судов по оценке возможности применения рассматриваемого вида гражданско-правовой ответственности. Соответственно для должников, контролирующих лиц и контрагентов сформирована ситуация правовой неопределенности.
Отсутствие какой-либо ясности также характерно для иных случаев применения субсидиарной ответственности контролирующих лиц (например, ч. 4 ст. 23.2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, направленная на защиту прав граждан – участников долевого строительства).
Сконструированная в настоящее время субсидиарная ответственность контролирующих лиц не обеспечивает защиту правомерных ожиданий, рассматриваемых Конституционным Судом РФ как возможность в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения (Постановление от 20.07.2011 № 20-П). Только принятие решений исключительно во вред кредиторам должно служить основанием для привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности, иной подход изменяет саму сущность предпринимательской деятельности с характерным для нее рисковым характером.
В результате достижение принципа правовой определенности в рамках института субсидиарной ответственности контролирующих лиц возможно путем: унификации механизма применения рассмотренных институтов по Закону о банкротстве, корпоративным и иным основаниям; изменения безусловности правовых презумпций, применяемых вне зависимости от фактических обстоятельств дела; установления единых требований о возможности возложения ответственности только в случае наличия причинноследственной связи между действиями контролирующего лица и негативными последствиями для кредиторов; закрепления единого подхода в понятии контролирующего лица для целей возложения субсидиарной ответственности.
Список литературы Субсидиарная ответственность контролирующих лиц в контексте принципа правовой определенности
- Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2003.
- Бондарь Н.С. Правовая определенность - универсальный принцип конституционного нормоконтроля (практика Конституционного Суда РФ) // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 10. С. 4-10.
- Карелина С.А. Субсидиарная ответственность в механизме защиты прав и законных интересов участников отношений несостоятельности: современные тренды // Предпринимательское право. 2022. № 1. С. 10-18.
- Плотников Д.А., Усцов Д.К. Особенности действия принципа состязательности на стадии возбуждения дела в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 9. С. 53-60.
- Петухов С.В. Специфика субсидиарной ответственности контролирующих лиц // Власть закона. 2023. № 1 (53). С. 289-297.