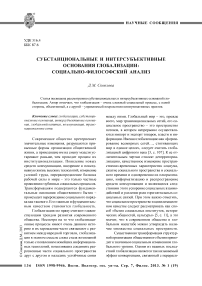Субстанциональные и интерсубъективные основания глобализации: социально-философский анализ
Автор: Соколова Дина Михайловна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 1 (19), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению субстанциональных и интерсубъективных оснований глобализации. Автор отмечает, что глобализация - очень сложный социальный процесс, с одной стороны, объективный, а с другой - управляемый посредством коммуникативных практик.
Глобализация, субстанциональные основания, интерсубъективные основания, глобальный капитал, коммуникация, транснациональные сети
Короткий адрес: https://sciup.org/14974568
IDR: 14974568 | УДК: 316.4
Текст научной статьи Субстанциональные и интерсубъективные основания глобализации: социально-философский анализ
Современное общество претерпевает значительные изменения, разрушаются привычные формы организации общественной жизни, а приходящие им на смену модели устаревают раньше, чем проходит процесс их институционализации. Появление новых средств коммуникации, внедрение в повседневную жизнь высоких технологий, изменение условий труда, перераспределение баланса рабочей силы в мире – это только частные проявления глубинных социальных процессов. Трансформациям подвергаются фундаментальные основания общественного бытия – происходит перерождение социального порядка как такового. Его главным и фундаментальным качеством становится глобальность.
Глобализацию по праву считают главенствующим трендом развития современного общества. Несмотря на то что глобализационные процессы имеют очень давнюю историю и их зарождение часто связывают с развитием международной торговли, глобализация в полном смысле слова стала возможной только с появлением новейших информационных технологий, позволивших соединить разрозненные части социального пространства друг с другом и наладить устойчивые связи между ними. Глобальный мир – это, прежде всего, мир транснациональных сетей, его социальное пространство – это пространство потоков, в котором непрерывно осуществляются импорт и экспорт товаров, власти и информации. Именно глобализацию как «формирование всемирных сетей…, стягивающих мир в единое целое», следует считать глобализацией цифрового века [3, с. 107]. К ее отличительным чертам относят детерриториа-лизацию, качественное изменение пространственно-временных характеристик социума, сжатие социального пространства и социального времени и одновременно их плюрализацию, информатизацию и распространение средств коммуникации и являющиеся следствиями этого ускорение социальных взаимодействий и усиление роли горизонтальных социальных связей. При этом важно отметить, что социальное пространство в цивилизационном качестве следует рассматривать как способ «бытия социальных институтов, исторических общностей, культуры» [5, с. 11], а это значит, что в современном обществе в глобальном масштабе можно утверждать наличие множества социальных пространств.
Существенная трансформация структурной организации общественного бытия приводит к значимым социальным изменениям глобального уровня. Одним из важных последствий глобализации является так называемый эффект конвергенции, связанный с перерасп- ределением сил в мировой экономической системе: «…новая глобализация предоставляет новым рыночным экономикам канал освоения технологий, позволяющих быстро выходить на более высокие уровни развития и таким образом стремительно сокращать отставание по доходам от богатых стран, в частности США» [2, с. 129]. Именно этой возможностью воспользовался Китай, политика которого направлена на создание транснациональных предприятий при активном содействии западных инвесторов. В совместной деятельности китайские предприниматели перенимают зарубежный опыт, после чего открывают собственные предприятия, используя импортированные технологии, и этим во многом объясняется успешное развитие экономики современного Китая.
Этот уникальный опыт заставляет взглянуть на глобализацию с иных позиций, переосмыслив возможные перспективы этого процесса. Глобализация зачастую представляется в исследовательской литературе как намеренно осуществляемый проект вестернизации по американскому образцу. Уже стало общепринятым говорить о тех рисках, которые несет глобализация для стран третьего мира и всех государств, которые принято относить к развивающимся, однако не меньшие угрозы она несет и западным технологически развитым государствам, которые также оказываются перед необходимостью поиска ответов на серьезные вызовы, о чем зачастую не говорят. Их задача удерживать пальму первенства и идеологически обосновывать свое превосходство намного сложнее, чем задача развивающихся стран, обладавших изначально большим ресурсом, но испытывающим недостаток в технологиях, а теперь получивших и доступ к технологическому знанию. Для государств Азии стратегия догоняющей модернизации изначально проигрышная. Выбирая ее, они оказываются в ситуации Ахиллеса и черепахи, описанной элейцем Зеноном, когда самый быстрый атлет Древней Греции никогда не догонит самое медлительное животное – черепаху. Обладающий более мощным сырьевым потенциалом и внушительным человеческим ресурсом Восток не сможет достичь уровня развития европейской цивилизации, если будет ориентироваться на воспроизвод- ство созданных на Западе моделей экономических и политических отношений. Модель догоняющей модернизации перестает быть эффективной и, в общем, никогда таковой и не являлась. В эпоху глобализации мир замыкается, и перед странами третьего мира открываются более короткие пути модернизации, не предполагающие отказа от традиционных ценностей и достижений собственной цивилизации: «Новая концепция множества модерниз-мов и национальных модернизаций считает различия в модернизациях разных стран закономерной, отрицает единый образец» [1, с. 110]. Каждая культура способна породить свой сценарий развития, и именно он в большей степени будет соответствовать ее потребностям.
Наиболее выгодной представляется модель национальной модернизации, учитывающей достижения западной цивилизации и продемонстрированных ею результатов технологического и экономического развития. Заимствоваться должны не институциональные структуры, не приживающиеся на инородной почве, а знания и навыки. В противном случае будут созданы все условия для возникновения конфликта между исконными и прививаемыми моделями управления и разрушения существующих социальных структур. Объяснение малой эффективности заимствования дается в теории институциональных матриц, в которой обозначается детерминация устройства каждого конкретного общества его социальным кодом, хранящим информацию о принятых в нем моделях общественных отношений.
Осознание преимуществ национальных моделей модернизации открывает перед развивающимися странами перспективы необычайного экономического роста. Богатые природные ресурсы, рабочая сила, импортированные технологические знания – залог процветания стран азиатского региона, а приток западного капитала только увеличивает их шансы на успешную реализацию этого потенциала: «До сих пор считалось, что капитализм перемелет любую культуру…, сегодня кажется, что тысячелетняя цивилизация Китая перемелет капитализм, использует его для себя» [1, с. 121]. Глобализация капитала оказалась опасной в первую очередь для Запада. Евро- па и США на протяжении долгого времени пропагандировали свои идеи и модели поведения, индивидуализм, феминизм, мультикультурализм, но восприятие этих ценностей постепенно перешло из разряда причастного в разряд непричастного потребления, когда они начали восприниматься как ценности Другого и перестали ассимилироваться. Как Макдональдс из символа и оплота американской культуры постепенно превратился в обычное место приема пищи, так и многие идеологические бренды западной цивилизации начинают поглощаться без присвоения, оставаясь при этом символами чужого мира.
Таким образом, глобализация бросает вызов не только и не столько развивающимся странам, сколько странам развитым, которым грозит реальная опасность быть поглощенными мощными и планомерно развивающимися азиатскими державами. Однако нельзя забывать, что главной целью любого субъекта глобального сообщества должно являться не достижение лидерства, а поиск форм устойчивого развития. Глобальные проблемы – экологические, экономические, политические, этноконфессиональные и др. – показали очевидность того факта, что глобальное сообщество не может управляться исключительно процессами самоорганизации, а отдельно взятые государства уже не являются влиятельными политическими акторами.
Для поиска эффективных форм сосуществования в глобальном обществе необходимо, прежде всего, понимание онтологических оснований глобализации. Именно обращение к ее истокам может помочь раскрыть глубинную сущность социальных процессов современности и определить, что такое глобализация – реально существующая тенденция общественного развития или определенная идеология, навязываемая нам как объективная реальность? Несмотря на популярность проблемы глобализации, в социально-философской литературе до сих пор не сформировано целостного представления об этом феномене. Его концептуализация, как представляется, должна проводиться с позиций субстанционального и интерсубъективного подходов. Первый поможет раскрыть ее объективные составляющие, второй – выявить социальные смыслы, вкладываемые в этот процесс его участниками, и определить границы управления им.
Казалось бы, понятие глобализации исключает всяческий момент субстанциональности, но это далеко не очевидно. Глобализация как закономерный социальный процесс должна иметь субстанциональную основу. Существует мнение, что в условиях глобализации «…предлагается интенция не просто обмена чем-либо, а такого обмена, который создает единое пространство и даже единую субстанцию в масштабах земного шара» [4, с. 7]. Однако более корректным представляется утверждение, согласно которому не глобализация способствует становлению единой субстанции, а существует некая субстанция, движение которой и предопределяет развитие глобальных процессов. В качестве такой субстанции можно рассматривать капитал, информацию или знания, которые также могут быть рассмотрены в качестве интеллектуального капитала, ибо сегодня мы живем в эпоху торжества капитализма, когда практически любой социальный ресурс может быть выражен как капитал. Иное субстанциональное объяснение глобализирующих тенденций предлагается в психоаналитической традиции, заложенной К.Г. Юнгом, связывающей эффект синхроничности с наличием социального коллективного бессознательного. Архетипы являются носителями социального поля, не локализованного в пространстве и времени и имеющего глобальный характер. Косвенным подтверждением верности предположения о наличии единой субстанциональной основы глобальных социальных процессов представляется феномен осевого времени, который сложно объяснить без допущения существования некоего субстанционального единства человеческой цивилизации. В данной связи глобализация может быть рассмотрена не как распространение в глобальных масштабах идеи глобального общества, а как одновременное ускорение центробежных сил истории в разных уголках земного шара. Интересно, что вероятность существования так называемого социального поля, обеспечивающего синхронность происходящих в различных частях света событий, находит подтверждение в современной физике. Существование нелокальных корреляций давно признано в естественно-математических науках, и, возможно, в дальнейшем квантово-полевые модели смо- гут объяснить феномен синхроничности не только в природе, но и в социальной сфере [1, с. 252]. Однако зарождение одних и тех же явлений в различных обществах еще не означает их абсолютной идентичности. Так, в осевое время в разных частях света зарождаются четыре великие цивилизации, но порожденные ими культуры в высшей степени самобытны и уникальны.
В связи с этим объяснение существующих в глобальном мире закономерностей с позиций субстанциональности явно недостаточно. Любое общество интегрируется с помощью свойственных ему политических и экономических отношений, культурных взаимодействий, а отношения и взаимодействия всегда предполагают важность коммуникации и, следовательно, интерсубъективного начала социального. Глобальное общество утверждает себя с помощью тех же посредников, что и каждое отдельно взятое общество (в качестве таковых Ю. Хабермас, к примеру, предлагает рассматривать – власть, деньги и взаимопонимание), а это означает, что помимо существования неконвенциональных смыслов общество также принимает смыслы, о которых договариваются входящие в него субъекты.
Сторонники концепции коммуникативной социальности считают, что установление социальных отношений в обществе, в том числе и глобальном, возможно только посредством формирования консенсуса, предполагающего осуществление языковой коммуникации и достижение базового согласия относительно ценностей и норм. Утверждению же последних предшествует дискуссия, в которой обязаны участвовать все коммуниканты, которые в дальнейшем будут руководствоваться принятыми нормами и ценностями. Микроуровень коммуникативного действия представлен малыми социальными группами, макроуровень – глобальным диалогом, но важно помнить, что в концепции коммуникативной социальности фундаментальные принципы реализации коммуникативного действия на всех уровнях остаются неизменными.
Тем не менее существуют серьезные препятствия для абсолютизации коммуникативного объяснения природы глобализационных процессов. Во-первых, число глобальных игроков слишком велико, чтобы они могли быть членами одной единой и целостной коммуникативной общности. Во-вторых, степень их включенности в глобальные процессы различна. В-третьих, выход из глобального сообщества невозможен: «Глобализация рынков, масс-медиа и других сетей сегодня больше не дает ни одной нации богатых перспективами опций на выход из капиталистической модернизации» [6, с. 291]. И все это свидетельствует об ограниченности коммуникативных возможностей.
Эпоха глобализации порождает новые формы властных отношений, качественно иные модели организации общественного бытия. В глобальном мире меняется положение государства. Большей значимостью начинают обладать экономические акторы. Появляются новые политические и экономические институты, и одним из самых влиятельных из таковых становится многонациональная, или транснациональная, корпорация. При рассмотрении глобализации с точки зрения ее онтологии становится очевидным, что закономерности ее развития, с одной стороны, предопределены субстанциональностью глобального социального поля, а с другой – интерсубъективной природой человеческого общества.
Список литературы Субстанциональные и интерсубъективные основания глобализации: социально-философский анализ
- Новые идеи в социальной философии. -М.: ИФ РАН, 2006. -324 с.
- Сакс, Д. Цена цивилизации/Д. Сакс; пер. с англ. А. Калинина; под ред. В. Ю. Григорьевой. -М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. -352 с.
- Соколова, Р. И. Российское государство в эпоху глобализации (психодуховные аспекты)/Р. И. Соколова//Судьба государства в эпоху глобализации. -М.: ИФ РАН, 2005. -С. 102-160.
- Спиридонова, В. И. Глобализация и национальное государство/В. И. Спиридонова//Судьба государства в эпоху глобализации. -М.: ИФ РАН, 2005. -С. 5-47.
- Устьянцев, В. Б. Очерки социальной философии: пространственные структуры, порядок общества, динамика глобальных систем/В. Б. Устьянцев, М. О. Орлов, С. А. Данилов; под ред. проф. В. Б. Устьянцева. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2010. -248 с.
- Хабермас, Ю. Между натурализмом и религией. Философские статьи/Ю. Хабермас; пер. с нем. М. Б. Скуратова. -М.: Весь мир, 2011. -336 с.