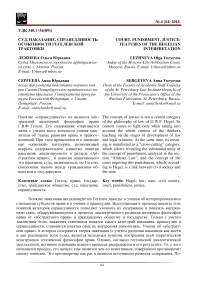Суд, наказание, справедливость: особенности гегелевской трактовки
Автор: Лежнева Ольга Юрьевна, Сергеева Анна Юрьевна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 4 (54), 2018 года.
Бесплатный доступ
Понятие «справедливость» не является центральной категорией философии права Г.В.Ф. Гегеля. Его содержание открывается лишь с учетом всего контекста учения мыслителя об этапах развития права и правоотношений. При этом проявляется его значение как «сквозной» категории, позволяющей вскрыть содержательное единство понятия наказания, анализируемого в разделе «Абстрактное право», и понятия назначающего это наказание суда, являющегося, по Гегелю, связующим звеном между гражданским обществом и государством.
Гегель, право, государство, гражданское общество, суд, наказание, справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/142233977
IDR: 142233977 | УДК: 340.1+34(091)
Текст научной статьи Суд, наказание, справедливость: особенности гегелевской трактовки
Понятие наказания актуализируется Гегелем дважды: в учении об интерперсональном отношении субъектов права и в учении о правосудии. Выступающая в процессе анализа этих понятий категория справедливости позволяет уточнить их содержание и показать внутреннюю связь, обнаруживающуюся в процессе диалектического развития материала философии права от «абстрактного права» к гражданскому обществу и государству. Только с учетом диалектики этого движения становится понятен смысл категорий наказания, правосудия и справедливости, становится понятна сама их внутренняя взаимосвязь. Учение об «абстрактном праве», в котором содержится теория наказания (с учетом различия наказания как мести и как реализации воли суда), является исходным пунктом построения всей теоретической конструкции гегелевской философии права. Однако, согласно гегелевской диалектической методологии, истинное основание всякого процесса раскрывается в его результате. То, с чего начинается процесс, его начало, еще является чем-то неистинным, совершенно противоречит своему понятию. Это противоречие как раз и является источником развития содержания. По- этому абстрактная атомарная личность, выступающая субъектом договорных отношений, содержит в себе противоречие, состоящее в том, что она является лишь абстракцией всей полноты духовного содержания, которое раскрывается в понятии государства, несущего в себе высшую нравственную идею. Гегель, кстати, именно поэтому одобрительно высказывался в своей «Истории философии» об аристотелевской теории происхождения государства: в «Политике» государство исторически является результатом сложения и развития селений (аналог гражданского общества), но логически, по сути своей, первично, поскольку более глубоко раскрывает ту нравственную идею, которую несет в себе и общество, и личность.
Содержание отношений абстрактного права составляет взаимное признание личностей [3, с. 97-98]. Уже в своей ранней рукописи 1805-1807 гг. Гегель отмечал: «Я должно быть признанным… Это признание есть право» [1, с. 316]. Так как для взаимно признающих друг друга субъектов здесь не предполагается отношение ни к какому другому содержанию человека, кроме его существования в качестве единицы социального признания, то это признание должно фиксироваться во внешних формах материальной вещи. Вещь в качестве опосредующего начала взаимного признания личностей определяется Гегелем как собственность [3, с. 101-105], социальное отношение по поводу этой собственности как владение [3, с. 106-121], опосредование признания личности качестве собственника общей волей социума определяется Гегелем как договор [3, с.128], отрицание этой воли человеком или сообществом людей может быть невольным, тогда это будет «непреднамеренное неправо» [3, с. 137-140], или сознательным, тогда мы имеем дело с преступлением [3, с. 90]. В любом случае, это противоречие должно быть преодолено и право должно быть восстановлено.
Однако в силу особенностей гегелевской диалектики, право, восстановленное на этой ступени, уже не является только прежним «абстрактным правом», с которого начинал ученый. Это право уже обнаруживает в себе «общую волю», т.е. обнаруживает своей социальное содержание [3, с. 130], которое опосредует правовое отношение людей и непосредственно принуждает их находиться в рамках такого правового отношения. Обнаружение этого социального содержания в праве, его своего рода «предъявленность» субъектам правовых отношений, как раз и несет в себе институт наказания. Анализ отношений абстрактного права, описанных в философии права Гегеля, позволяет нам интерпретировать его трактовку сущности наказания в качестве формы социального явления «общей воли», скрытой за непосредственностью правового отношения двух свободных личностей.
Но право, согласно Гегелю, не является только социальным отношением. Поэтому помимо «общей воли» сообщества людей, оно заключает в себе и некоторое всеобщее содержание, отсылающее нас высшим первоосновам бытия. Следуя традиции, заложенной Платоном, Гегель соотносит высшее определение единства бытия - абсолютную идею - с идеей блага, или абсолютного добра [4, с. 748-753]. Право основано именно на этом признании людьми абсолютности блага и на осознании своей включенности в мировую гармонию, заключающую в себе единство многообразия мировых процессов и явлений [12, с. 186; 16, с. 177-178]. Источник такого понимания права Гегель видел в историческом развитии государства, религии и церкви [5, с. 9-14; 10, с. 20-25; 15, с. 173-179]. Благодаря исторической традиции справедливость сохраняет свою роль основной нравственно-правовой ценности [7, с. 7-231; 11, с. 4-11; 14, с. 76-80; 16, с. 72-78]. Отсылку к заключенным в праве абсолютным начала мы находим именно на тех страницах «Философии права», где содержится гегелевская трактовка понятия наказания: «Но право и справедливость должны корениться в свободе и воле, а не в несвободе, к которой обращается угроза. Такое обоснование наказания похоже на то, будто замахиваются палкой на собаку, и с человеком обращаются не соответственно его чести и свободе, а как с собакой. Угроза, которая в сущности может довести человека до такого возмущения, что он захочет доказать по отношению к ней свою свободу, совершенно устраняет справедливость» [3, с. 146]. Поэтому, право и справедливостью имеют место только там, где есть свобода личности, они не могут быть основаны на насилии и страхе возмездия.

Г.В.Ф. Гегель утверждал, что наказание является способом существования справедливости в государстве, хотя и не единственной его правовой формой [3, с. 148]. Именно в институте наказания как правовом институте, согласно Гегелю, наиболее зримо проявляется сущность духовных отношений, регулируемых правом и складывающихся в государстве как высшей форме социальной общности. Возмездие за причинный ущерб, которое не опосредовано волей государства и которое осуществляется единичным человеком, является еще по сути своей чисто природным деянием. Ведь и единичный человек, если взять его в отрыве от всей совокупности общественных отношений, также, как известно, окажется лишь некоторым абстрактом, данным нам от природы. Такое возмездие будет только местью [3, с. 151]. В отличие от мести, этого своего рода аналога природных отношений в сфере духа, в наказании, установленном судом на основании права и закона, а затем утвержденном и исполненном государством, Гегель усматривает внутреннюю меру, проявляющуюся в соразмерности количественных и качественных характеристик назначенного наказания [3, с. 149-150]. Эту внутреннюю соразмерность, немецкий ученый вслед за античными мыслителями связывает с отношениями, характерными для духовной сферы. Рассуждая об этой соразмерности, Гегель возвращает нас к определениям уравнивающей и распределяющей справедливости, введенным еще Аристотелем. Рассмотрев понятие наказания как способа существования справедливости в государстве, Гегель фиксирует данность и открытость духовного содержания интерперсональных отношений для его субъектов, а, соответственно, и открытость для личности духовного содержания другой личности – ее партнера в правовых отношениях. Но эти отношения, которые основаны на взаимном признании друг друга личностями (поскольку теперь это признание взято не как результат этих отношений, а как их предпосылка) уже следует понимать как отношения моральные, которые получают систематическую реализацию в институте семьи. Таким образом, теорией наказания в «Философии права» опосредуется переход от абстрактного права к сфере моральности.
Абстрактная атомарная личность достигает ступени конкретности и целостности в семье, где ее единство с другой личностью положено систематически, а не устанавливается спорадически случайным образом в акте взаимного признания, закрепленного в договоре. Понятие справедливости, хотя и не является собственно теоретико-правовой категорией, играет здесь роль своего рода «точки опоры», отталкиваясь от которой ученый переходит на более высокий теоретический уровень исследования своего объекта, сохраняя при этом категорию справедливости и для последующей философско-правовой традиции [6, с. 6-11; 14, с. 70-86; 13; 17; 18]. Но дальнейшая теоретическая проблема состоит в том, что и семья, которую Гегель, понимает, как одно единое лицо, в реальности существует в качестве многих лиц, соединенных в единое целое тем, что Гегель называл нравственной субстанцией. Духовная нравственная субстанция трактуется в «Философии права» как систематическая всеобщая связь этих социальных «атомов», представляющих собой самостоятельные семьи, но также и любые другие складывающиеся на основе разделения труда и имущества устойчивые общности людей [2, с. 342-343]. Именно эту систематическую связь Гегель и связывает с понятием гражданского общества. Вторым после семьи базисом гражданского общества и государства выступают сословия. Связь социальных атомов нуждается в устойчивости и рефлексирован-ности со стороны членов гражданского общества, последняя достигается в праве, а первая в институтах государства. Таким образом, государство оказывается внутренним содержанием гражданского общества, его «душой» по образному выражению Гегеля [2, с. 342]. Относя суд к сфере гражданского общества, Гегель не противопоставляет его государству и государственной власти, а наоборот, рассматривает как связующее звено между двумя формами явления единой нравственной субстанции общества. Суд, как устойчивый институт, обнаруживает внутреннее содержание гражданского общества, этого в трактовке Гегеля «внешнего государства», а потому сам может трактоваться как первое проявление государственного начала в гражданском обществе.
Значение института суда для развития права Гегель видел в том, что суд «отнимает у существования права его случайность и в особенности превращает это существование, как оно обнаруживается в мести, в наказание» [2, с. 347]. Трансформируя право в наказание, суд дает праву форму действительного существования. В деятельности суда проявляются те же философско-правовые смыслы наказания, которые были выделены Гегелем еще на ступени абстрактного права. А именно: 1) В социальном плане суд выступает как реализации «общей воли» гражданского общества. Согласно Гегелю, это выражается в публичном характере судопроизводства [3, с. 260] и в олицетворении общества в лице суда присяжных [3, с. 263]. 2) Здесь воспроизводится и тот нравственно-онтологический статус права, который Гегель в теории наказания связывал с идеей справедливости. Суд в своей деятельности, считал он, напрямую «апеллирует» к всеобщности права, имеющей значение для всего общества. Внешнее проявление этой «апелляции» Гегель также связывал с требованием публичности судопроизводства [3, с. 263].
Таким образом, анализ теории наказания, представленной Гегелем в разделе «Абстрактное право», позволяет дать более точную интерпретацию его трактовки диалектической взаимосвязи социального значения института суда и его функции по осуществлению в социальной действительности всеобщих нравственно-правовых начал справедливости. Наказание, назначаемое судом преступнику, проявляет то содержание, которое имманентно содержится в правовом интерперсональном отношении. А именно: его социальную составляющую, являющуюся выражением «общей воли», и его духовную составляющую, отсылающую нас к абсолютным первоосновам бытия. В понятии справедливости Гегелем фиксируется проявленность в наказании, назначаемом преступнику судом, всеобщего нравственного содержания права.
Список литературы Суд, наказание, справедливость: особенности гегелевской трактовки
- Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. Т. 1. М.: Мысль, 1972.
- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М.: Мысль, 1977.
- Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
- Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Ч.1. Объективная логика. Ч.2. Субъективная логика / Изд. подгот. Д.В. Масленников. СПб.: Наука, 1997.
- Гусев О.В., Масленников Д.В., Ревнова М.Б. Церковь и духовный смысл права / Юридическая мысль. 2017. № 1. С. 8-14.
- EDN: ZMZQFV