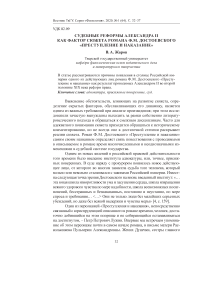Судебные реформы Александра II как фактор сюжета романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
Автор: Жаров Владимир Алексеевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются причины появления в столице Российской империи одного из действующих лиц романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» как результат проводимых Александром II во второй половине XIX века реформ права.
Адвокатура, присяжные поверенные, суд
Короткий адрес: https://sciup.org/146281568
IDR: 146281568 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Судебные реформы Александра II как фактор сюжета романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
Выяснение обстоятельств, влияющих на развитие сюжета, определение скрытых факторов, обуславливающих его динамику, является одним из важных требований при анализе произведения; при этом исследователи зачастую вынуждены выходить за рамки собственно литературоведческого подхода и обращаться к смежным дисциплинам. Часто для адекватного понимания сюжета приходится обращаться к историческому комментированию, но не всегда оно в достаточной степени раскрывает реалии сюжета. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» самим своим названием определяет связь повествования с проводимыми в описываемое в романе время многочисленными и неоднозначными изменениями в судебной системе государства.
Одним из новых явлений в российской правовой действительности того времени было введение института адвокатуры, или, точнее, присяжных поверенных. В суде наряду с прокурором появилось новое действующее лицо, от которого во многом зависела судьба того человека, который вольно или невольно сталкивался с законами Российской империи. Известна следующая точка зрения Достоевского на вновь введенный институт: «… эта юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянно и неустанно, по мере спроса и требования… <…> Они не только люди без малейших серьезных убеждений, но даже без всякой выдержки и чувства меры» [4, с. 159].
Один из персонажей «Преступления и наказания», непосредственно связанный с юриспруденцией описанного в романе времени, человек, достаточно добившийся на этом поприще и не собирающийся останавливаться на достигнутом, – Петр Петрович Лужин. Впервые мы встречаем упоминание об этом персонаже почти в самом начале романа, в письме матери Раскольникова Пульхерии Александровны. Жених Дунечки, сестры главного героя, – «надворный советник, Петр Петрович Лужин <…> человек очень деловой и занятой и спешит теперь в Петербург <…> он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал <…> он хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. Он давно уже занимается хождением по разным искам и тяжбам и на днях только что выиграл одну значительную тяжбу. В Петербург же ему и потому необходимо, что у него там одно значительное дело в сенате» [3, с. 31–32]
Информация носит достаточно общий характер и вместе с тем позволяет составить первое впечатление о персонаже. Итак, наш герой – достойный представитель института поверенных на юридическом поприще. Позднее, при описании посещении им жилища Раскольникова, находим строчки, где Лужин от первого лица приоткрывает причины, приведшие его в столицу Российской империи: «Я, видите ли, уже десять лет не посещал Петербурга. Все эти наши новости, реформы, идеи – все это и до нас прикоснулось, но чтобы видеть яснее и видеть все, надобно быть в Петербурге» [Там же, с. 115]. «Новости, реформы, идеи» весьма тесно затрагивают непосредственные интересы Лужина. Речь идет о реформах Александра II, в том числе и о судебной реформе, введенной указом от 20 ноября 1864 г., то есть непосредственно перед описываемыми в романе событиями. Вводимые в юридическую систему изменения могут поколебать благополучие Петра Петровича, который сам себя считает адвокатом («Имею к тому же весьма важное дело по моей адвокатской части в сенате»), и в этом определении с ним согласен Раскольников («…ведь он по делам ходит, адвокат»). Но не совсем ясно, какое содержание вкладывают герои в слово адвокат . Неясность объясняется тем, что в то время оно не имело характера термина, его еще не существовало в юридической практике (за исключением прибалтийских губерний, где институт адвокатуры уже существовал), лексическое значение его было весьма неопределенным, хотя само слово было весьма распространено: по воспоминаниям современников, Николай I утверждал, что в его правление России адвокаты не нужны.
Институт присяжных поверенных – тех, кто ближе всего к понятию адвокат , – вводится указом от 20 ноября 1864 г. Но новые уставы вводятся во всех местностях Европейской части России постепенно, начиная с губерний, входящих в состав округов Санкт-Петербургской и Московской судебных палат. До появления института присяжных поверенных сходную в чем-то с ними функцию выполняли частные поверенные, стряпчие – «крапивное семя».
Известный судебный деятель того времени Александр Владимирович Лохвицкий, доктор права, покинувший государственную службу и ставший присяжным поверенным (в Краткой литературной энциклопедии о поэтессе Мирре Александровне Лохвицкой говорится: «дочь адвоката»), утверждал, что в Российской империи отсутствует адвокатура в западном смысле этого слова, и недоумевал, почему частые поверенные украшают себя громким именем адвокатов – неизвестно по какому праву и на каком основании. Здесь можно вспомнить и Чичикова, который «…в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием, не приобретшим у нас гражданства, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказной тварью и даже самими доверителями» [2, с. 218].
От большинства присяжных поверенных Лужина отличает образование: в письме Раскольникову говорится, что Петр Петрович – человек «небольшого образования» [3, с. 31], позднее упоминается о том, что он учился на «медные деньги». Однако это не мешает герою преуспевать, и всё же его весьма беспокоят грядущие реформы. Мы знаем, что Лужин «служит в двух местах», и это пока не возбраняется, потому что по старому Своду законов практически каждый имел право быть поверенным, и лишь чиновникам «запрещалось выступать поверенными в тех местах, где они служат» [1, с. 16]. По новому «Учреждению судебных установлений» в число присяжных поверенных не допускались вообще лица, состоящие на службе, а статья 387 главы второй «Права и обязанности присяжных поверенных» гласила: «В тех городах, где имеют жительство достаточное число присяжных поверенных, тяжущиеся могут давать на хождение по тяжебным их делам в судах того города только лицам, принадлежащих к числу сих поверенных». Количество присяжных поверенных достаточно жестко нормируется статьей 386: «Число присяжных поверенных, признаваемое достаточным в городах уездных и губернских и в столицах, определяется в особой табели, которую министр юстиции по представлению судебных палат вносит через Государственный Совет на Высочайшее утверждение» [6, с. 329]. Иными словами, приближалась коренная ломка сложившихся судебных правоотношений, привычный источник безбедной жизни Петра Петровича мог иссякнуть, и, скорее всего, именно в этом причина его приезда в Петербург, а не упомянутое ранее дело в Сенате. Впрочем, Сенат – высшая апелляционная инстанция по большинству дел – может привлекать Лужина и в качестве достоверного источника информации о реформах, так как в ходе их подготовки и введения предлагались весьма разные проекты. Так, еще в 1859 г. Государственный Совет предлагал назначать присяжных поверенных «…из желающих поступить в сие звание чиновников, способных, благонадежных и имеющих достаточные по части гражданских судебных дел сведения, хотя бы одною практикой приобретенные» [1, с. 99]. Естественно, такой принцип формирования нового правового института как нельзя больше устраивал Петра Петровича: он чиновник, у него большая юридическая практика; о его «благонадежности» свидетельствует следующее предположение Раскольникова: «Анна в петлице есть» [3, с. 37]. Орденом Святой Анны с 1847 г. награждали «за беспорочную 12-летнюю службу в одной должности, но не ниже восьмого класса»[7, с. 136].
Но несколько позднее Государственная канцелярия предложила иной подход к отбору кандидатов в присяжные поверенные. Во-первых, предлагалось ограничить срок принятия в число присяжных поверенных шестью годами. Во-вторых, присяжными поверенными могли стать или лица с высшим юридическим образованием, что никак не устраивало Лужина по причине отсутствия у него этого образования; или лица с юридической практикой и опять-таки с высшим образованием, пусть и не специальным, что также не могло устроить нашего героя; или «…те, которые, хотя и не кончили воспитания в высших учебных заведениях, но занимают по ведомству Министерства юстиции должности не ниже седьмого класса, а также секретари Сената» [1, с. 101]. Это последнее положение кажется спасительным для персонажа, не желающего расставаться с избранным поприщем: вспомним, что в письме матери Раскольникова говорится о том, что Лужин «уже надворный советник», а этот чин по «Табели о рангах» как раз и соответствовал седьмому классу. Но в тексте романа нет упоминания, по какому ведомству служил Петр Петрович; вполне вероятно, что и по другому – и тогда опять-таки возможность стать присяжным поверенным остается призрачной. Наконец, Государственная канцелярия предлагала открыть путь к званию присяжного поверенного «присяжным стряпчим при коммерческих судах» [Там же], что, впрочем, тоже не совсем соответствует чаяниям Лужина: он, как мы помним, прежде всего чиновник по гражданской службе.
Кроме того, практически параллельно с описываемыми в романе событиями рассматривался проект о праве министра юстиции отказывать в утверждении в звании присяжного поверенного без объяснения причин. По замыслу авторов проекта, данное положение могло преградить путь в юриспруденцию не совсем порядочным людям. Проект рассматривался 2, 5, 9, 12 июля и 20 августа 1865 г. Тогда же рассматривался вопрос о том, что недовольные отказом в утверждении в звании могли предоставить свои объяснения министру юстиции, который, в свою очередь, предлагал их на рассмотрение первого департамента Сената. Лужин вполне мог об этом знать: проекты реформ не носили закрытого характера и широко освещались в прессе того времени. В тексте «Учреждения судебных установлений» от 20 ноября 1864 г. статья 354 главы второй достаточно жестко ограничивала круг возможных кандидатов в новое звание: «Присяжными поверенными могут быть лица, имеющие аттестаты университетов или других высших учебных заведений об окончании курса юридических наук или о выдержании экзамена в сих науках, если они сверх того прослужили не менее пяти лет по судебному ведомству в таких должностях, при исправлении которых могли приобрести практические сведения в производстве судебных дел». К тому же следующая, 355-я статья запрещала быть присяжными поверенными лицам, состоящим «…на службе от правительства или по выборам, за исключением лиц, занимающих почетные или общественные должности без жалованья» [6, с. 323], и тем самым, казалось, хоронила надежды Лужина на новое звание. Однако некоторая зыбкость и неоднозначность вводимых положений позволяют нашему герою надеяться на благоприятный для себя исход. Тем более что Петр Петрович располагал определенным запасом времени: только 14 марта 1866 г. была публикация о принятии и рассмотрении прошений лиц, желающих поступить в число присяжных поверенных по округу санкт-петербургской судебной палаты. Учитывая вышеизложенное, становится вполне понятен интерес Лужина к Сенату и то, что он, упоминая о «важном деле <…> в сенате», не конкретизирует его.
Но текст романа предполагает и иную возможность, иную, более высокую цель, преследуемую Лужиным, своего рода журавля в небе: «Незадолго перед тем, после долгих соображений и ожиданий, он решился, наконец, окончательно переменить карьеру и вступить в более обширный круг деятельности, а с тем мало-помалу перейти и в более высшее общество, о котором он давно уже со сладострастием подумывал. <…> Одним словом, он решился попробовать Петербурга» [3, с. 235]. Причина перемен достаточно прозрачна: «…более всего на свете любил и ценил он, добытые трудом и всякими средствами, свои деньги: они равняли его со всем, что было выше его» [Там же, с. 234]. Лужин своим нюхом дельца почувствовал возможность хорошей наживы. Позднее, в 1875 году, при введении в действие институтов судебной реформы, Н.А. Некрасов писал во второй части «Современника» о подобных Лужину:
И, содрав гонорар неумеренный,
Восклицал мой присяжный поверенный: «Перед вами стоит гражданин
Чище снега альпийских вершин!..» [5, с.115–116]
Естественно, в столице доход присяжного поверенного явно мог быть выше, много выше: «Председатели провинциальных судов то и дело обращаются в Петербург и Москву с просьбой найти желающих поселиться в округе того или иного суда. <…> Председатель кашинского суда сообщает, что “он приглашал в январе и феврале месяцах 1867 г. через публикацию в “Московских и Петербургских ведомостях” лиц, желающих быть присяжными поверенными при суде, но желания на это никто не изъявил”» [1, с. 121]. Уровень жизни в столице, во многом определяемый уровнем доходов, был несопоставим с соответствующими категориями провинциальной жизни. Но, как уже отмечалось ранее, количество присяжных поверенных в столицах ограничивалось, поэтому понятна предусмотрительность Петра Петровича и заблаговременность его действий. В упомянутом «Учреждении судебных установлений» статья 379 регламентирует порядок поступления в число присяжных поверенных: «Желающий поступить в число присяжных поверенных должен подать о том прошение в совет сих поверенных, объяснив в прошении: в каком именно городе избирает он себе место жительства, а также что для поступления его в звание присяжного поверенного нет ни одного из тех пре- пятствий» [6, с. 327–328], о которых мы уже упоминали и которые у Петра Петровича, увы, присутствуют. Но на начальном этапе реформы, при отсутствии совета присяжных поверенных, вполне вероятным было снижение требований к кандидатам, отбор велся чиновниками (а Лужин из их племени), следовательно, шансы его не были равны нулю. И причина приезда нашего героя из глубокой провинции (тысяча верст по железной дороге) в столицу представляется весьма прозрачной.
Об авторе:
Список литературы Судебные реформы Александра II как фактор сюжета романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
- Адвокатура, общество и государство. История русской адвокатуры: в 2 т. Т. 1 / Сост. С.Н. Гаврилов. М.: Юристь, 1997. 357 с.
- Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 9 т. Т. 5. М.: Рус.кн., 1994. 605 с.
- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 6. Л.: Наука, 1973. 423 с.
- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 23. Л.: Наука, 1981. 423 с.
- Некрасов Н. А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 3. М.: Худож. лит.,. 1965. 470 с.
- Реформы Александра II / Сост. О. И. Чистяков, Т.Е. Новицкая М.: Юрид. лит., 1998. 464 с.
- Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. М.: Флннта; Наука, 2003. 264 с.