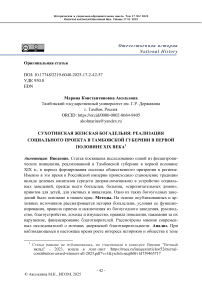Сухотинская женская богадельня: реализация социального проекта в Тамбовской губернии в первой половине XIX века
Автор: Акользина М.К.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 2 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена исследованию одной из филантропических инициатив, реализованной в Тамбовской губернии в первой половине XIX в., в период формирования системы общественного призрения в регионе. Именно в это время в Российской империи происходило становление традиции вклада целевых капиталов (средств дворян-помещиков) в устройство социальных заведений, прежде всего богаделен, больниц, «сиропитательных домов», приютов для детей, для увечных и инвалидов. Одно из таких богоугодных заведений было основано в нашем крае. Методы. На основе опубликованных и архивных источников рассматривается история богадельни, условия ее функционирования, правила приема и исключения из богоугодного заведения, руководство, благоустройство, доходы и имущество, правила поведения, наказания за их нарушение, финансирование благотворителей. Рассмотрены мнения современных исследователей о мотивах дворянской благотворительности. Анализ. При наблюдающемся в настоящее время росте интереса историков и общества к теме благотворительности исследователи отмечают, что региональные аспекты проблемы российской дореволюционной дворянской филантропии, особенно касающиеся первой половины XIX в., еще не получили полного и должного освещения. Результаты. Автор предприняла попытку показать уникальность социального проекта, в основе которого лежал целевой капитал, для Тамбовской губернии первой половины XIX в., Сухотинской женской богадельни, первоначальную историю Знаменской обители – предшественницы основанного позже Сухотинского Богородице-Знаменского женского монастыря, одного из самых известных монастырей в Тамбовской губернии в XIX в. Богадельни были самой распространенной формой благотворительности в Российской империи в XIX в., они основывались повсеместно, многие богадельни получали семейные имена учредителей.
Российская дореволюционная филантропия, благотворительная инициатива, дворянская благотворительность, целевой капитал, богадельня, монастырь, призрение, Тамбовская губерния, Знаменский Сухотинский женский монастырь
Короткий адрес: https://sciup.org/149147738
IDR: 149147738 | УДК: 930.8 | DOI: 10.17748/2219-6048-2025-17-2-42-57
Текст научной статьи Сухотинская женская богадельня: реализация социального проекта в Тамбовской губернии в первой половине XIX века
В первой половине XIX в. окончательно сложились формы общественного призрения и типы благотворительных учреждений. К моменту основания приказов и до конца царствования Александра I в России преобладали закрытые формы призрения (предоставление мест в сиротских домах, приютах, домах умалишенных, больницах, богадельнях). По мнению исследователей темы, «основной объем средств обеспечивала благотворительность состоятельных господ, прежде всего дворян» [1, с. 260-263].
Исследователи темы расходятся во мнении относительно причин и мотивов филантропических действий частных лиц. Одни отмечают, что большинство благотворительных акций дворян в первой половине XIX в. носило сугубо праг- матичный характер [2, с. 8-16]. Другие рассматривают «благие дела» дворян с альтруистических позиций. Но все исследователи сходятся во мнении, что «многие аспекты проблемы дворянской благотворительности еще не получили полного и должного освещения, в частности региональный» [3, с. 177-188].
Самой распространенной формой благотворительности в Российской империи в XIX в. были богадельни, они основывались повсеместно, многие богадельни получали семейные имена учредителей [4].
Богадельнями в XIX в. назывались благотворительные заведения для постоянного призрения физически и психически немощных людей (современные аналоги – дома престарелых, дома инвалидов, психоневрологические интернаты).
«Богадельня служит источником постоянного благотворения; она предназначена не для случайных просителей, а для известного подбора нуждающихся – престарелых, увечных и тому подобных – и имеет целью оказать им помощь не случайную, а прочно обеспечивающую их судьбу». Кроме того, В.В. Степанова упоминает об устройстве особых условий для призрения дворян, помещаемых в богадельни [5, с. 141].
Обзор литературы
В дореволюционной историографии проблемам благотворительности уделялось достаточно внимания [6; 7; 8, с. 1-68; 9; 10]. Большинство работ исследователей истории российской благотворительности посвящено или общим проблемам [11; 12; 13, с. 244-300; 14], или российской филантропии пореформенного периода (1861–1914 гг.) [1; 15; 16, с. 13-18], очень редко – конкретным благотворительным инициативам для решения социальных проблем в первой половине XIX в. [17, с. 31-47], причем анализ мотивов благотворительности в большинстве работ не занимает много места. В подавляющем количестве исследований благотворительность рассматривается в первую очередь как вид деятельности, имеющий под собой сугубо прагматичные основания, основным мотивом здесь выступало желание благородной общественности показать администрации и верховному правителю собственную лояльность, выразить признательность за предоставленные возможности. Большинство благотворительных акций дворян было призвано либо улучшить положение представителей своей корпорации, либо зафиксировать в общественном сознании подвиги благородного российского дворянства [2, c. 8-16].
Существует и другое мнение о мотивах дворянской благотворительности: «большая часть исконно русского дворянства была представлена глубоко верующими православными христианами, следовательно, мотивы, побуждавшие этих людей к благотворительности, во многом определялись Евангельским учением о милостыне и словами Иисуса Христа об отношении к ближнему: "Блаженны милостивые, яко тии помилованы будут. Продайте имение ваше и дай- те нищим, не скрывайте себе сокровище на земле…". Учитывая особенности формирования мировоззрения провинциального дворянина-помещика, можно предполагать о возможности возникновения особых, уникальных, свойственных лишь определенным территориям направлений форм и видов благотворительной деятельности» [3].
Материалы и методы
Одним из самых известных в Тамбовской губернии в XIX в. дворянских филантропических проектов, в основе которого лежал целевой капитал («вечный вклад»), является основание Сухотинского женского монастыря и богадельни при нем. В 1818 г. в ответ на свою просьбу помещик Петр Гаврилович Сухотин получил от митрополита Ионы разрешение и благословение на строительство церкви. В том же году храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» был построен, торжественно освящен в 1822 г. Кроме церкви было построено несколько полукаменных двухэтажных и одноэтажных корпусов для инокинь.
Результаты исследования и обсуждение
После смерти мужа Варвара Александровна Сухотина решила устроить при обители богадельню. Ее начинание было поддержано почитаемым в регионе задонским затворником Георгием: «Что не видится глазами, то веруется и разумеется умом. Мне приятно было представить благонамеренные труды ваши и выразуметь из совершения дела надлежащую пользу. Простою мыслию говорю с вами, представляя пред глазами простое здание, которое может служить единственно для упокоения бедных людей, не имущих покрова; и такое построение всеми одобряется и похвально во всем свете. Но ваше строение, как только теперь видно, стесненное многими препятствиями, от которых многие скорби наносятся вашему сердцу, не имеет сравнения с простым зданием: оно имеет вмещать таких людей, которые всем сердцем горят к Богу и ищут спасительного пристанища, где бы плакаться о грехах и приносить непрестанные молитвы, чтобы сердцами и устами славословить имя Божие! Так на сей священнейший предмет возбужденное ваше сердце, хотя и оскорбляемое, но, с терпением снося обиды, приятно простирает, какие только от изволения вашего зависят, щедрые пожертвования на совершенное устроение храма Божия и обители для спасающихся душ. Поэтому-то ваше строение и не имеет сравнения с простыми зданиями, хотя и много полезными: те здания служат только для телесного упокоения, но ваше строение собственно для спасения бессмертных душ, усердно погружающихся в любовь Божию...» [18, с. 531-533].
В 1825 г. Варвара Александровна Сухотина подала прошение в Священный Синод «дозволить ей открыть на своей господской усадьбе женский монастырь» [19, с. 12-13]. Но ее начинание не получило поддержки у соседей-помещиков. Вдова, не имевшая прямых наследников, очень переживала по по- воду судьбы своей дворни. Утешение она находила в переписке с задонским затворником Георгием, который морально поддерживал помещицу в спорном деле с соседями. Вот одно из писем:
«Милостивая государыня! Истинная добродетель неусыпным трудом совершается и претерпевает искушения с противной стороны, и тем свидетельствуется ее светлость. Не унывайте, матушка, и не отчаивайтесь: о всякой вещи есть Промысл Божий!
Вам нужно быть у А. — все предпринимать и терпеливо сносить ради Бога. Вы примите на себя новый труд: отслужа молебен Божией Матери и помянувши имя П. А., чтобы Господь положил ему на сердце благую мысль, взойдите к нему с верою — и смиренными просьбами истинно можете убедить его к вы-слушанию вас; и тотчас мысль его обратится на помощь вашу. Когда предвидится лучшее предприятие, тогда должно предпринимать, нимало не отлагая времени. Господу угодно, чтобы благоугождающие Ему, сколько можно, со всеми мир имели; и вы радостно следуйте сему: Господь Сам дарует вам благонамеренные советы к прославлению имени Его.
Укрепляйтесь, матушка, надеждою на благоустрояющего Зиждителя Господа Бога! Смиренным дается благодать; Он силен облагодатить сердце ваше сокрушенное...
От искренности сердца моего желаю вам успехов о Христе Иисусе!
Усердствующий непотребный раб Е. Февраля 16-го, 1826 года» [18, с. 457-458].
Дело рассматривалось медленно, и все время ожидания это начинание вдовы поддерживал все тот же затворник Георгий : «Милостью Божией предпринятое вами, к прославлению имени Христова, для жаждущих спастися да благоустроится по всемощному предстательству Небесной Царицы, Матери Господа Бога нашего Иисуса Христа...
Матушка! попросите Божию Матерь о благоустроении вашего дела; умолите Ее усердно молебным молением вашим; прострите вашу щедрую руку к нищим, сотворите им милостыню... Мая 23-го, 1826 года» [18, с. 529-530].
Соседи-помещики боялись потерять приходскую церковь, которая строилась и на их деньги, и начали дело против Варвары Александровны. Но она не опускала руки, и действовала всеми доступными способами, активно прибегая к помощи святых, посетив крупнейший в Тамбовской епархии духовный центр – Рождество-Богородицкий монастырь в Задонске, приложившись к мощам святителя Тихона и получив поддержку затворника Георгия [18, с. 457-458].
В 1833 г. помещица Сухотина просила Тамбовский Приказ общественного призрения «дозволить ей учредить в ее доме богадельню» [19]. В этом же году указом министра внутренних дел было разрешено открыть богадельню на 30 женщин. В пользу богадельни Варвара Александровна передала всю свою господскую усадьбу с постройками и каменной оградой, сад, огород, 170 десятин земли [20; 21; 22; 23].
И снова она получила поддержку от задонского затворника Георгия: «... И мне пришла мысль сообщить вам по милости Божией: нужно прежде поискать благонравную старицу и пригласить ее для порядочного собирания душ, ищущих спастися, чтобы благое начало могло производить благой порядок и настоятельство в следовании собирающихся, ‒ это нужно...» [18, с. 634-636].
Исследователями, историками, церковными деятелями и краеведами всегда большее внимание уделялось монастырю, а богадельня оставалась в тени [24]. Сегодня стоит обратиться именно к первоначальной истории Знаменской обители.
В опубликованном источнике «Историко-статистическое описание Бого-родице-Знаменского Сухотинского женского монастыря» М.П. Кадомского (1864 г.) находим такие сведения: «Варвара Александровна… мая 12 числа просила Тамбовский Приказ Общественного Призрения дозволить ей учредить в собственном ея доме богадельню. "Приближаясь к старости, – писала она «в своем объявлении Приказу, – и помышляя о смерти, могущей постигнуть меня, за нужное поставляю устроить в моем благоприобретенном имении на духовном основании Богадельню, которая должна быть подчинена Тамбовскому Приказу Общественного Призрения"» [19, с. 12-13]. Для богадельни «предоставляла она всю свою господскую усадьбу, со всеми каменными и деревянными постройками и каменною оградою, сад и огород на четырех десятинах, с выстроенными там банею и горницею; пахотной земли 40 десятин из дачи, так называемой Вельяминовой поляны, 10 десят. луговой и 60 десят. леса, а именно; 35 де-сят. по зимней Тамбовской дороге и 25 десят. дровянаго леса по болоту, и сверх того капитал в 20,000 р. ассигн., внесенный в Тамбовский приказ общественного призрения 25 Декабря 1831 года»1. Ежегодно призреваемым в богадельне женщинам выдавалось по 3 рубля. Кроме заведения для лиц женского пола помещица планировала устроить странноприимный дом на 15 человек, а «за оградой выстроить дом на 17 … престарелых мужчин и не имеющих пристанища, а особенно людей обоего пола, отпущенных ею, Сухотиной, на волю»2. Для этого предполагалось использовать доход от эксплуатации принадлежавшей ей мукомольной мельницы.
В богадельне в 10 комнатах предполагалось разместить 30 женщин (это достаточно много для подобного заведения в провинции), но на время открытия в ней содержалось 18 больных женщин и «бесприютных стариц». Приходили сироты и вполне здоровые вдовы и девушки, постепенно количество призреваемых достигло 48 человек. «Богаделенные» занимались в основном рукоделием, изготовлением одежды и пищи, молились и читали Священное Писание, исполняли обязанности при богослужении. Поскольку обитатели богадельни не могли самостоятельно вести хозяйство, учредительница обязывалась вместо доходов от угодий поставлять (до своей кончины) на их содержание ежегодно «25 четвертей ржаной муки, 10 четвертей гречки, 5 четвертей гороха, 4 пуда конопляного масла… и содержать на свой счет 5 коров» [19]. Кроме того, В.А. Сухотина назначала из доходов от принадлежащей ей мельницы «80 рублей на свечи; и масло для чтения псалтыри и 120 рублей священно-церковно-служителям за совершение по субботам литургии за упокой ея мужа, а по смерти ея, и ея самой» [19].
В Государственном архиве Тамбовской области сохранились материалы и документы о Сухотинской женской богадельне1, в которых содержатся сведения об учреждении и управлении этого заведения, его имуществе, о приеме в богадельню и др.
В 1833 г. помещица вдова майорша Сухотина «учредила богадельню для 30 женщин в благоприобретенном имении ея, находящемся в селе Знаменском Тамбовского уезда» [19], представила в Тамбовский Приказ общественного призрения составленные ею «Правила об управлении богадельней» и просила их утвердить. По представлению министра внутренних дел они были рассмотрены в Комитете министров Российской империи и получили одобрение: «Проект сей утвердить, оставя Богадельню, учрежденную вдовою майоршею Сухотиною в селе Знаменском Тамбовского уезда, в непосредственном управлении ея во все продолжение ея жизни, под высшим и общим токмо наблюдением Тамбовского Приказа Общественного Призрения» 2 . Недвижимое имение было укреплено В.А. Сухотиной в собственность заведения.
7 октября 1937 г. «проект удостоился Высочайшего рассмотрения и утверждения в Царском Селе»3. Подписал «Проект положения для управления Сухотинскою женскою богадельнею, находящеюся в селе Знаменском Тамбовской губернии» тогдашний министр внутренних дел Д. Блудов.
Проект положения о богадельне состоял из нескольких частей: I. Об управлении богадельней; II. О приеме в богадельню призреваемых и увольнение их; III. О содержании богадельни; IV. Об упражнениях призреваемых в богадельне; V. О соблюдении благочиния и опрятности в богадельне; VI. О посетителях; VII. О подаяниях; VIII. О суммах, вообще принадлежащих заведению.
«В признательность к благотворению» помещицы учрежденная ею женская богадельня, относившаяся к Тамбовскому приказу общественного призрения, стала именоваться Сухотинской. Непосредственный надзор и управление богадельней предоставлялись учредительнице «в продолжении жизни ея», с присвоением ей звания попечительницы заведения.
Для руководства богадельней и «для ближайшего наблюдения за внутренним порядком и благочинием в богадельне» были введены должности начальницы и ее помощницы (экономки), на которые могли избираться как из самих призреваемых, так из посторонних лиц, «известных по честному поведению своему и доброй нравственности». Кандидатуры на эти места утверждались Приказом общественного призрения. Этот приказ должен был контролировать состояние и благоустройство заведения «посредством чиновников, командируемых для осмотра заведения»1.
Основная часть правил посвящалась приему в богадельню. Преимущество получали «бедные, престарелые женщины, не имеющие возможности снискивать себе пропитание собственным трудом, а также осиротелые увечные девицы, лишенные всякого крова и пристанища и принадлежащие к свободным состоя-ниям»2. Кандидатуры должны были получить разрешение попечительницы заведения, по ее «собственной воле и распоряжению». Все документы призреваемых и прислуги (паспорта, свидетельства и др.) у них изымались и хранились в Приказе общественного призрения, копии оставались в богадельне. Составлялся общий список призреваемых «с указанием лет их, звания, времени приема и причин, по коим они приняты в заведение»3.
Руководством заведения внимательно отслеживались причины попадания сюда девушек и женщин. Отлучаться без уважительной причины («особенной нужды») и без разрешения начальницы было нельзя. Но можно было отлучиться на короткий срок только тем «призреваемым, кои поведением своим заслужили доверие богаделенного начальства». Частные лица могли по желанию «взять себе богаделенную на собственное пропитание». Для этого нужно было получить разрешение попечительницы заведения. У покинувших в таких случаях богадельню отбиралось все принадлежащее богадельне имущество. «Богаделенное начальство» должно было сообщать тамбовскому приказу общественного призрения о всех «уволенных на собственное или родственников их и сторонних благотворителей пропитание», а также об исключенных и умерших женщинах. В случае смерти призреваемой, не оставившей завещания, все ее имущество поступало в собственность богадельни.
Исходя из Правил, богадельня содержалась на проценты с пожертвованного В.А. Сухотиной капитала (20 тыс. руб.), а также на доходы с недвижимого «имения, укрепленного ею в собственность заведения»4. Предполагалось, что в богадельне разместятся 30 призреваемых женщин и девушек, причем «увеличение числа их зависит от способов заведения и допускается с разрешения высша-го Начальства»1. Забота о содержании находящихся в богадельне, определение издержек на содержание богадельни, как и все «хозяйственные распоряжения по заготовлению разных потребностей для призреваемых», полностью ложилась на плечи самой попечительницы «в продолжении ея жизни»2. Ежегодно тамбовский приказ получал отчет о состоянии заведения.
Предполагалось, что «богаделенные» будут заниматься посильным трудом, «упражняться в полезных рукоделиях и работах, соразмерно силам и способностям их»3 в определенные часы и в специально для этого предназначенных помещениях. Возможным считалось получение доходов от продажи «выработанных трудами изделий по вольным ценам», десятая часть всех доходов должна была поступать в казну богадельни и расходоваться на содержание призреваемых и благоустройство заведения. Призреваемые женщины и девушки могли свободно распоряжаться своими деньгами и имуществом «по собственному усмотрению»4.
В богадельне содержались разные женщины, поэтому особое внимание уделялось правилам поведения: «Призреваемые… должны вести жизнь трезвую, кроткую, миролюбивую, заниматься трудами по мере сил своих, молиться всякий день по утру и ввечеру, быть при церковных богослужениях во все воскресные и праздничные дни»5. Запрещались употребление крепких спиртных напитков, «всякие игры и неприличные увеселения», а также нельзя было просить у посетителей милостыню, но «воля благотворения у посетителей не отъемляет-ся». За нарушение условий проживания и «за поступки, противные благонравию» виновные могли подвергаться разным наказаниям: содержались на хлебе и воде, отправлялись на тяжелые работы и др. Злостных нарушительниц, «не исправляющихся сиими мерами», из богадельни исключали. Совершивших уголовные преступления определяли в соответствующие структуры.
Кроме занятий общественными работами, уборкой в комнатах, во дворе и в саду выбранные наставницей женщины занимались «попеременным непрерывным чтением Псалтири и заупокойных, церковию принятых молитв». Даже совсем немощным, которые не могли «по слабости здоровья заниматься никакими работами», предлагалось, по мере сил, читать или просто слушать священные и назидательные произведения. Прием пищи проходил в общей столовой, коло- кольчиком подавался знак к началу трапезы. Время обеда и ужина определялось руководством богадельни. Перед обедом и ужином и после них вслух читались молитвы, во время еды слушали Жития Святых или другие поучительные повествования. «Неподвижных и слабых» кормили в их комнатах.
Особое внимание («строгое наблюдение») уделялось опрятности в одежде, белье и обуви призреваемых женщин, а также чистоте кухонной посуды.
Богадельня была открыта для посетителей (родственников, знакомых), но никому из них нельзя было приносить с собой крепкие напитки (уличенные в этом один раз больше никогда не допускались в заведение, за этим строго следил привратник), оставаться на ночь, проживать с призреваемыми. Ворота были открыты для посетителей с 6 ч утра и до 8 ч вечера, но открытие ворот и вход в богадельню для свидания был возможен только с разрешения начальницы.
Посетители (благотворители) могли вносить пожертвования в пользу богадельни (деньги, вещи и др.). Для сбора подаяния у ворот под образом стояла запечатанная кружка с надписью «в пользу Богадельни» под замком, ключ от нее хранился в богаделенном денежном сундуке. Кружка вскрывалась начальницей или экономкой по мере ее наполнения еженедельно (или раз в несколько недель), и это может служить показателем незначительности пожертвований.
Частные лица могли финансировать проживание определенной женщины, делать приношения деньгами или вещами, но только с согласия попечительницы. Если принесенные в дар богадельни вещи были ненужными или «излишними», их можно было продать с разрешения попечительницы заведения, а вырученные деньги «причислялись к богаделенной сумме». Когда опекаемая уходила из богадельни, то у нее отбиралось казенное имущество. Оставляли заведение, как правило, женщины, вышедшие замуж или «уволенные на собственное или родственников их и сторонних благотворителей пропитание». Могли и выгнать. Имущество умерших, не оставивших завещания, оставалось в богадельне.
Заключение
По указу Святейшего Синода от 28 сентября 1849 г. Сухотинская богадельня была преобразована в женский общежительный монастырь «с призрением в нем и пребывающих там штатных богаделенных лиц»1. Все здания и имущество богадельни передавались монастырю.
Таким образом, устроенная помещицей Варварой Александровной Сухотиной в своем имении богадельня была не только одной из первых филантропических инициатив, реализованных в Тамбовской губернии в первой половине XIX в., но и уникальным социальным проектом, в основе которого лежал целевой капитал, ставший основой для устройства женской обители.