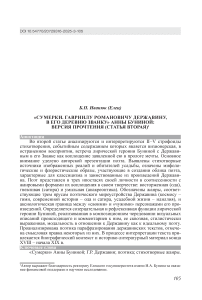«Сумерки. Гавриилу Романовичу Державину, в его деревню Званку» Анны Буниной: версия прочтения (Статья вторая)
Автор: Б.П. Иванюк
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Во второй статье анализируются и интерпретируются Ⅱ−Ⅴ строфоиды стихотворения, событийным содержанием которых является визионерская, в остраненном восприятии, встреча лирической героини Буниной с Державиным в его Званке как воплощение заявленной ею в прологе мечты. Основное внимание уделено авторской презентации поэта. Выявлены стихотворные источники изображенных реалий и обитателей усадьбы, означены мифологические и флористические образы, участвующие в создании облика поэта, характерные для классицизма и заимствованные из произведений Державина. Поэт представлен в трех ипостасях своей личности в соотнесенности с жанровыми формами их воплощения в своем творчестве: восторженная (ода), гневливая (сатира) и умильная (анакреонтика). Обозначены жанры, соответствующие трем ярусам поэтического мироустройства Державина (космосу – гимн, современной истории – ода и сатира, усадебной жизни – идиллия), и аксиологическая граница между «своими» и «чужими» персонажами его произведений. Определяется созерцательная и рефлексивная функции лирической героини Буниной, реализованная в композиционном чередовании визуальных описаний происходящего и комментариев к ним, ее сквозная, стилистически выраженная, модальность в отношении к Державину как к идеальному поэту. Проанализирована поэтика парафразирования державинских текстов, отмечена смысловая правка некоторых из них. В процессе интерпретации текста привлекается биографический контекст и историко-литературный материал конца ⅩⅤⅢ – начала ⅩⅨ в.
«Сумерки» Анны Буниной, Г.Р. Державин, поэтика, стихотворные жанры
Короткий адрес: https://sciup.org/149149380
IDR: 149149380 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-105
Текст научной статьи «Сумерки. Гавриилу Романовичу Державину, в его деревню Званку» Анны Буниной: версия прочтения (Статья вторая)
СУМЕРКИ
Гавриилу Романовичу Державину, в его деревню Званку
Ⅰ Блеснул на западе румяный царь природы, Скатился в океан, и загорелись воды.
Почий от подвигов! усни, сокрывшись в понт!
Усни и не мешай мечтам ко мне спуститься, Пусть юная Аврора веселится, Рисуя перстом горизонт, И к утру свежие готовит розы;
Тогда как добрый чародей,
Рассыпав мак, отрет несчастных слезы, Тогда отдамся я мечте своей.
Вдруг настоящее сменяя ложным,
Из дыма храм сооружу, Со счастием союз свяжу, Блаженством упиясь возможным. Взгляну - и снег согреется в полях, Стряхнется иней на кустах;
Дохну - и льдины распадутся, Как воск, кремни погнутся, Содвинется смягчась металл. Иль вырвавшись из стен пустынных, В беседы преселюсь великих, мудрых, сильных: Усни, царь дня! тот путь, который описал, Велик и многотруден.
П Откуда яркий луч с высот ко мне сверкнул, Как молния, по облакам скользнул?
Померк земной огонь... о! сколь он слаб и скуден Средь сумраков блестит, При свете угасает...
Чьих лир согласный звук во слух мой ударяет?
Бессмертных ли харит
Отверзлись мне селенья?
Сколь дивные явленья!
Где ночь в окрестностях, а здесь восток, Златым лучем весення утра Мне кажет чистых вод поток;
Вдали, - из перламутра,
Сквозь пальмовых дерев я вижу храм, А там,
Средь миртовых кустов, склоненных над водою, Почтенный муж с открытой головою На мягких лилиях сидит, В очах его небесный огнь горит, Чело, как утро ясно, С устами и с душей согласно, На коем возложен из лавр венец;
У ног стоит златая лира;
Коснулся, - и воспел причину мира;
Воспел, - и заблистал в творениях Творец.
Ш Как свет во все концы вселенной проникает, В пещерах мраки разгоняет, Так глас его, во всех промчавшися местах, Мгновенно пролетел из царства в царство: Согнулось злобное коварство, Рассеялось неверие, как прах, Открылись в будущем для скорбного надежды, Расчистился туман в понятии невежды, И каждый возгласил: велик в твореньях бог!
IV Умолк певец... души его восторг
Прервал согласно песнопенье;
Но в сердце у меня осталось впечатленье, Которого ничто изгладить не могло.
Как образ, проходя сквозь чистое стекло, Единой на пути черты не потеряет: Столь верно истина себя являет, Исшед устами мудреца:
Всегда равно ясна, всегда умильна,
Всегда доводами обильна, Всегда равно влечет сердца.
V Певец отер слезу, - коснулся вновь перстами, Коснулся, загремел, И сладкозвучными словами Земных богов воспел;
Воспел великую из смертных на престоле, Ея победы в бранном поле,
Союз с премудростью - любовь к благим делам, Награду ревностным трудам, И лиру окропя слезою благодарной, Во мзду щедроте излиянной, Он вновь умолк, восторгом упоен.
Но глас его в цепи времен
Бессмертную делами
Блюдет бессмертными стихами!
VI Спустились грации, переменили строй, Смягчился гром под гибкою рукой, И сельские послышались напевы, На звуки их стеклися девы.
Как легкий ветерок
Порхая чрез поля с цветочка на цветок, Кружится, резвится, до облак извиваясь: Так девы юные, сомкнувшись в хоровод, Порхали по холмам у тока чистых вод, Стопами легкими едва земле касаясь, То в горы скачучи, то с гор.
Певец веселый бросил взор.
(И мудрым нравится невинная забава.)
VII Стройна, приятна, величава,
В одежде тонкой изо льна,
Без перл, без пурпура, без злата, Красою собственной богата Явилася жена;
В очах певца под пальмой стала, Умильный взгляд к нему кидала, Вия из мирт венок.
Звук лиры под рукой вдруг начал изменяться, То медлить, то сливаться;
Певец стал тише петь ‒ и наконец умолк. Пришелица простерла руки,
И миртовый венок за сельских песней звуки,
Едва свила,
Ему с улыбкой подала;
Все девы в тот же миг во длани заплескали.
Ⅷ Где я?..
От изумления к восторгу преходя, Спросила я у тех, которы тут стояли? «На Званке», ‒ со всех стран ответы раздались. Постой, мечта… продлись!..
Хоть час один!.. но ах! сокрылося виденье,
Оставя в скуку мне одно уединенье [Бунина 2016, 84–87]
Содержание последней мечты лирической героини «Сумерек» («Постой, мечта! продлись!..») разворачивается в жанре видения («сокрылося виденье»), разработанного многими старшими современниками Анны Буниной, из стихотворений которых следует упомянуть, прежде всего, онейрический катабасис «Видение» (посещение Пантеона великих поэтов), 1770-е гг., М.Н. Муравьёва, а также «Видение Мурзы» (1784) и «Водопад» (1794) Г.Р. Державина. В сравнении с будничной (еженочной) и сознательной мечтой в прологе – видение дается в модусе чуда, ниспосланного свыше, сопровождаемого светом и встреченного «пиитическим восторгом» (М.В. Ломоносов), выраженным риторическими вопросами и восклицаниями и определяющим общую авторскую модальность. В сравнении с прологом из трех видов субъектности лирической героини сохраняются созерцательная и рефлексивная. Утрата волеизъявительной оправдана тем, что Бунина выступает уже в роли ведомого чудом персонажа в предлагаемых обстоятельствах визионерского действа. Созерцательная субъектность репрезентирована визуальными описаниями, рефлексивная – созвучными им откликами, а их чередование создает композиционный ритм основной части стихотворения. Произведем ее аналитическую фрагментаризацию.
За эмоциональной увертюрой следует первое описание – хронотопиче-ское, соответствующее «дивным явленьям» и отличное от прологового («Где ночь в окрестностях, а здесь восток / Златым лучем весення утра…», там – «стены пустынные», здесь – « храм», или «храмовидный дом», как сказано Державиным в идиллии «Евгению. Жизнь Званская») [Державин 1958, 266]. Главным персонажем открывшейся мизансцены является безымянный Державин в остраненном восприятии «неведующего» созерцателя. Величественный образ «почтенного мужа», венчанного лавром, с небесным огнем в очах (Ср.: «Откуда старец мне навстречу выходил, / Со взором огненным и со челом открытым» из «Видения», 1770, М.Н. Муравьёва [Муравьев 1967, 190]) и восседающим на лилиях (отраженных в воде облаках), объективируется используемыми Державиным мифологемами: дарующими жизнелюбие харитами («Хариты», «На брачные торжествы»), золотой лирой и таким же монохромным «вод исток». В издании 1819 г. «[з]латит Кастальский ток» ‒ источник творческого вдохновения Кастальский ключ, «образным аналогом которого в державинском тексте [“Ключ”, 1779 – Б.И. ] оказывается Гребеневский источник, находившийся в подмосковном имении Хераскова» [Ларкович 2011, 49], которому и посвящено вольное переложение горацианской оды «К источнику Бандузии».
Опосредованным дополнением к облику поэта является и флористический антураж античного происхождения и заимствованный, в частности, из державинских текстов. Это и лилии как символ чистоты и непорочности («Блаженство супруги», 1807), цветок, часто ассоциируемый у Державина с женской грудью как одним из наиболее частотных объектов блазона, но отличного от него своим легким (флористическим) эротизмом («Едва по зыблющим грудям / С тобой лежащия Цирцеи / Блистают розы и лилеи…» из «Вельможи», 1774 [Державин 1958, 128]; «Лилеи на холмах в груди твоей блистают» из «Невесты», 1778 [Державин 1958, 309]; «И с роз в устах прелестных / И на грудях с лилей...» из «Анакреона у печки», 1795 [Державин 1958, 331]; «Чтоб розами уста, в лилеях грудь цвела» из «Послания Мурзы Багрима царевне Добросла-ве», 1796 (?) [Державин 1958, 448]; «Лилии блестящу грудь» из «Водомета», 1808 [Державин 1958, 429]).
Это и неоднократные дендросимволы, во-первых, многозначная пальма – и в составе фразеологизма «пальма первенства», соотносимого с семантикой лаврового венка как признанной общественной награды («Ты шествуешь в Пе-трополь с миром / И лавры на главе несешь; / Ты провождаешься зефиром / И Россам пальмы раздаешь. / Ты шествуешь! ‒ Воззри, царица…» из оды «На шведский мир», 1790 [Сочинения 1864, 307] и в идеализированном экфрасисе Екатерины Ⅱ: «Как пальма, в рае насажденна, / Так возвышалась бы стройна. / Как пальма клонит благовонну / Вершину и лице свое, / Так тиху, важну, благородну / Ты поступь напиши ее» в «Изображении Фелицы», 1789 [Державин 1958, 60–61]), во-вторых, мирт, цветок Афродиты, – символ любви и брака («На ложах роз, под мирт ветвями» из эпиталамы «На бракосочетание великого князя Павла Петровича с Натальею Алексеевной», 1773 [Сочинения 1866, 266]; «Иль мирт под тенью, под луною, / Он зрит, на чистом ручейке / Наяды плещутся водою, Шумят ˂…˃ Но нимф невинности не стыдно, / Что скрытый с ним не сходит зрак» из эпикурейской «Аристипповой бани», 1811 [Державин 1958, 286]; у Буниной миртовый венок преподносит поэту жена).
Все эти заимствованные и эмблематизированные классицизмом мифологемы создают типологический «профиль» архаичного поэта, аллюзии же на произведения Державина, конкретизирующие эти мифологемы, придают ему значение контекстуального соавтора.
Во Ⅱ‒Ⅵ строфоидах остраненная трансляция текстов в эмпатическом восприятии Буниной представляет Державина в трех ипостасях его поэтического дара – восторженной : « Коснулся и воспел причину мира [курсив в цитатах -авторов примечаний М.Г. Альтшуллера и Ю.М. Лотмана – Б.И. ] и т.д. Имеется в виду ода Державина “Бог” ˂…˃, Он пел великую. Имеются в виду оды Державина, посвященные Екатерине Ⅱ: “Фелица”, “Благодарность Фелице”, “Видение мурзы”, “Изображение Фелицы” и др.» [Поэты 1971, 847]); гневливой: « Злобное коварство – намек на оду Державина “На коварство французского возмущения и в честь князя Пожарского”. Неверие безбожника – намек на оды Державина “Успокоенное неверие” и “Бессмертие души”» [Поэты 1971, 847]) и умильной (« И сельские послышались напевы. Речь идет об анакреонтических стихотворениях Державина: “Хариты”, “Русские девушки”, “На пастуший балет” и др.» [Поэты 1971, 847] .
В этих же строфоидах поэтическое зрение Державина охватывает три яруса мира, соотносимых с иерархичной троичностью античного мировиде-ния: космос, персонифицированный «Творцом» («Бог», 1784), современная история («из царства в царство»; в издании 1819 г. «пространно царство» ‒ словосочетание, встречающееся как перифрастичное обозначение России еще у А. Кантемира: «И пространного царства пространны пределы» [Кантемир 1956, 242]), история, воплощенная, с одной стороны, в Екатерине Ⅱ, а с другой, в общественных пороках, и частная жизнь («Евгению. Жизнь званская», 1807).
К каждому из них применимо соответствующее жанровое название: гимн как восхваление высокочтимых понятий, «пиндарическая» ода, прославляющая знаменитые личности и их деяния, в функциональном плане тождественная энкомию, стихотворная сатира и анакреонтическая идиллия.
Эта жанровая структура поэтического мира Державина, за исключением сатиры, проецируется Буниной на визионерскую Званку, ее обитатели соотносятся с виртуальными персонажами из его произведений, но в скорректированном жанровом разрешении. При такой аллюзивной симметрии образ Державина приобретает значение равновеликого Творцу божественного певца в жанровом ореоле оды, его жены – усадебной царицы в жанровом ключе идилии, а селянки воспринимаются обмирщенными харитами / грациями – из анакреонтического репертуара. Такой жанровый расклад подкрепляется высказанным (развернутым / лаконичным) или умолчанным комментарием Буниной. Первый из них в формате вставочного (малого) видения заявлен риторической фигурой гиперболичного уподобления, построенного на аналогиях («Как свет во все концы вселенной проникает / В пещерах мраки разгоняет, / Так глас его, во всех промчавшися местах, / Мгновенно пролетел из царства в царство»).
Обожествление Державина продолжается и в следующем фрагменте. В нем после краткого возвращения к описанию мизансцены («Умолк певец… души его восторг / Прервал согласно песнопенье»), обозначающего композиционный выход из вставочного видения, дается развернутый комментарий к возвещенной поэтом истине о божьем величии. «Истина» ‒ одна из частотных лексем в текстах Державина (к примеру, «истины зерцало» в упомянутом «На коварство…» [Сочинения 1864, 319], «истина святая» в «Оде Екатерине II» [Сочинения 1866, 241]); она является для него аксиологическим критерием и экзистенциальным ориентиром. У Буниной она – основной предмет рефлексивного («в сердце у меня осталось впечатленье»), выделенного композиционной парентезой, размыкающей общие визионерские границы, комментария, выражающего в отношении своего адресата комплиментарную модальность («Исшед устами мудреца»). Субъектная же причастность к истине, выраженная метафорическим уподоблением («Как образ, проходя сквозь чистое стекло, / Единой на пути черты не потеряет») и симпатическими, объединенными анафорой, характеристиками («Всегда равно ясна, всегда умильна, / Всегда доводами обильна, / Всегда равно влечет сердца»), призвана заявить ментальное родство Буниной с Державиным, тем самым опосредованно охватив комплиментарной модальностью и себя.
В стихотворении обозначена и державинская аксиологическая граница между «чужими» и «своими». К «чужим» отнесены аллегоризированные пороки, среди же «своих» не только обитатели Званки, но и стихотворные персонажи Державина. К ним относится идеализированный образ императрицы, репродуцированный избранными аллюзиями на посвященные ей произведения (см. выше) в развернутой парафразе исполняемой Державиным оды. Образ отграничен от визионерской реальности Званки очередным композиционным возвращением к мизансцене: «Певец отер слезу, коснулся вновь перстами, / Ударил в струны, загремел, / И сладкозвучными словами Земных богов воспел!». И в этом плане державный образ славной историческими делами и благими поступками Фелицы и образы ее современников-антиподов репрезентируют две стороны русской действительности в восприятии поэта и определяют релевантные им его жанровые позиции – одическую и сатирическую, а значит, – и современное ему понимание назначения поэта. Однако симпатическое парафразирование Буниной державинских текстов свидетельствует лишь об отраженной ею авторской модальности Державина, проявленной к объектам своей поэтической рефлексии, в том числе и к своей личности. Так, стихи с допустимой биографической аллюзией на полученный Державиным подарок (золотую табакерку – «Награду ревностным трудам») от императрицы по прочтении ею похвальной оды «Фелица» (1782) ‒ «И, лиру окропя слезою благодарной, / Во мзду щедроте излиянной, / Вдруг вновь умолк, восторгом упоен…») отсылают к ответному продолжению этой оды – к «Видению мурзы» (1783‒1784), в частности, к стихам «Но, током слезным орошенный, / Пришел в себя и возгласил…» [Державин 1958, 39] и «Тебя быть мыслил в восхищенье / И лил в восторге токи слез» [Державин 1958, 40].
Заметим, что «восторг» у Буниной первый раз обусловлен прославлением Бога, а во второй – императрицы, и это их равновеличие подтверждается фразой «Земных богов воспел!». И вторично «пиитический восторг», вызванный экстатическим чувством, прерывает славословие Державину и инициирует отзыв на него: «Но глас его в цепи времен / Бессмертную делами / Блюдет бессмертными стихами». Они актуализируют в сознании, прежде всего, современного автору реципиента аллюзию на финальные стихи Державина из того же «Видения мурзы» ‒ «Как солнце, как луну поставлю / Твой образ будущим векам; / Превознесу тебя, прославлю; Тобой бессмертен буду сам» [Державин 1958, 40]. Тем самым проявляется собственное, выделенное начальным «но», опосредованное державинским и, в основном, совпадающее с ним, отношение Буниной к объекту его песнопения и, главное, к самому поэту, к его стихотворчеству.
Этот отзыв предполагает несколько примечаний. Во-первых, в стихах Буниной заметна смысловая переакцентуация державинских, в которых в выраженном в них упоении объектом своего славословия проступает образ придворного поэта, что позволило некоторым современникам Державина уже по прочтении «Фелицы» упрекнуть его в поэтической угодливости. Бунина нейтрализует несправедливое мнение об этом. Для них обоих императрица «по делам своим» достойна поэтического служения, отличного от поэтической услужливости, лести, и заслуживает мнемонического бессмертия. При этом Бунина производит временную рокировку в расстановке фигур «царица» и «поэт» – ключевой глагол «блюдет» в значении «хранит» дает основание для содержательного перефразирования державинских стихов: не «Тобой бессмертен буду сам», а «И мной бессмертна будешь ты». Эту несформулированную, но традиционную мысль о поэте как мнемоническом творце национальной истории следует признать кульминационной для этой части стихотворения Буниной. Во-вторых, в приведенном отзыве о поэтическом участии Державина в современной ему истории заложен ответ на вопрос о назначении поэтического слова. Он опосредованно подсказан структурой двустрочия «бессмертную делами ˂…˃ бессмертными стихами», а именно, рифмой, объединяющей исторические деяния и стихотворчество, и синтаксическим параллелизмом, уравнивающим их в значении. В-третьих, в эпитетном повторе «бессмертными» обозначено абсолютное будущее («в цепи времен»), которое, соединясь с абсо- лютным прошлым («воспел причину мира»), характеризует, т. ск., временной охват мира. В соединении с пространственным («все концы вселенной») он образует предельный хронотоп поэтического видения Державина. В целом же, можно говорить о сакрализованном образе поэта, который в дальнейшем тексте предстает в ином жанровом ракурсе. Об этом речь пойдет в третьей статье.