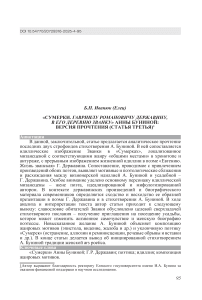«Сумерки. Гавриилу Романовичу Державину, в его деревню Званку» Анны Буниной: версия прочтения (статья третья)
Автор: Б.П. Иванюк
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной, заключительной, статье предлагается аналитическое прочтение последних двух строфоидов стихотворения А. Буниной. В ней сопоставляется идиллическое изображение Званки в «Сумерках», локализованное мизансценой с соответствующими жанру «общими местами» в хронотопе и антураже, с прерывным изображением жизненной идиллии в поэме «Евгению. Жизнь званская» Г. Державина. Сопоставление, проводимое с привлечением произведений обоих поэтов, выявляет мотивные и поэтологические сближения и расхождения между визионерской идиллией А. Буниной и усадебной – Г. Державина. Особое внимание уделено основному персонажу идиллической мизансцены – жене поэта, идеализированной и мифологизированной автором. В контексте державинских произведений и биографического материала современников определяется сходство и несходство ее образной презентации в поэме Г. Державина и в стихотворении А. Буниной. В ходе анализа и интерпретации текста автор статьи приходит к следующему выводу: славословие обитателей Званки обусловлено целевой сверхзадачей стихотворного послания – получение приглашения на посещение усадьбы, которое может изменить жизненное самочувствие и женскую биографию поэтессы. Невысказанное желание А. Буниной объясняет композицию жанровых мотивов (эпистола, видение, жалоба и др.) и уклончивую поэтику «Сумерек» (остранение, аллюзии и реминисценции, речевые обрывы и вставки и др.). В конце статьи делается вывод об инициированной стихотворением А. Буниной традиции женской ars poetica.
«Сумерки» Анны Буниной, Г.Р. Державин, поэтика, идиллия, композиция жанровых мотивов
Короткий адрес: https://sciup.org/149150083
IDR: 149150083 | DOI: 10.54770/20729316-2025-4-95
Текст научной статьи «Сумерки. Гавриилу Романовичу Державину, в его деревню Званку» Анны Буниной: версия прочтения (статья третья)
This final article offers an analytical reading of the last two stanzas of A. Bun-inaʼs poem. It compares the idyllic portrayal of Zvanka in “Twilight”, which is localized by the mise-en-scène and the genre-specific “common places” in the chronotope and setting, with the discontinuous depiction of the idyllic life in G. Derzhavinʼs poem “Eugene. The Life of Zvanka”. The comparison, conducted with the use of both poetsʼ works, reveals the motivational and poetic similarities and differences between Buninaʼs visionary idyll and Derzhavinʼs country estate. Special attention is paid to the main character of the idyllic mise-en-scène, the poetʼs wife, who is idealized and mythologized by the author. In the context of Derzhavinʼs works and the biographical material of his contemporaries, the similarities and differences in her figurative presentation in Derzhavinʼs poem and Buninaʼs poem are determined. In the course of the text analysis and interpretation, the author of the article comes to the following conclusion: the praise of the inhabitants of Zvanka is conditioned by the target super-task of the poetic message – receiving an invitation to visit the estate, which can change the poetess’s life experience and female biography. Bun-inaʼs unspoken desire explains the composition of the genre motifs (epistle, vision, complaint, etc.) and the evasive poetics of “Twilight” (strangeness, allusions and reminiscences, speech breaks and inserts, etc.). At the end of the article, the author concludes that A. Buninaʼs poem initiated the tradition of female ars poetica.
eywords
“Twilight” by Anna Bunina; G. R. Derzhavin; poetics; idyll; composition of genre motifs.
Гавриилу Романовичу Державину, в его деревню Званку
Ⅰ Блеснул на западе румяный царь природы,
Скатился в океан, и загорелись воды.
Почий от подвигов! усни, сокрывшись в понт!
Усни и не мешай мечтам ко мне спуститься,
Пусть юная Аврора веселится,
Рисуя перстом горизонт,
И к утру свежие готовит розы;
Тогда как добрый чародей,
Рассыпав мак, отрет несчастных слезы,
Тогда отдамся я мечте своей.
Вдруг настоящее сменяя ложным,
Из дыма храм сооружу,
Со счастием союз свяжу, Блаженством упиясь возможным. Взгляну – и снег согреется в полях, Стряхнется иней на кустах;
Дохну – и льдины распадутся, Как воск, кремни погнутся, Содвинется смягчась металл.
Иль вырвавшись из стен пустынных,
В беседы преселюсь великих, мудрых, сильных: Усни, царь дня! тот путь, который описал, Велик и многотруден.
Ⅱ Откуда яркий луч с высот ко мне сверкнул, Как молния, по облакам скользнул?
Померк земной огонь... о! сколь он слаб и скуден Средь сумраков блестит, При свете угасает…
Чьих лир согласный звук во слух мой ударяет?
Бессмертных ли харит
Отверзлись мне селенья?
Сколь дивные явленья!
Где ночь в окрестностях, а здесь восток, Златым лучем весення утра
Мне кажет чистых вод поток;
Вдали, ‒ из перламутра,
Сквозь пальмовых дерев я вижу храм, А там,
Средь миртовых кустов, склоненных над водою, Почтенный муж с открытой головою На мягких лилиях сидит,
В очах его небесный огнь горит,
Чело, как утро ясно,
С устами и с душей согласно, На коем возложен из лавр венец;
У ног стоит златая лира;
Коснулся, ‒ и воспел причину мира;
Воспел, ‒ и заблистал в творениях Творец.
Ⅲ Как свет во все концы вселенной проникает, В пещерах мраки разгоняет,
Так глас его, во всех промчавшися местах, Мгновенно пролетел из царства в царство: Согнулось злобное коварство, Рассеялось неверие, как прах, Открылись в будущем для скорбного надежды, Расчистился туман в понятии невежды, И каждый возгласил: велик в твореньях бог!
Ⅳ Умолк певец... души его восторг Прервал согласно песнопенье;
Но в сердце у меня осталось впечатленье, Которого ничто изгладить не могло.
Как образ, проходя сквозь чистое стекло, Единой на пути черты не потеряет: Столь верно истина себя являет, Исшед устами мудреца:
Всегда равно ясна, всегда умильна,
Всегда доводами обильна, Всегда равно влечет сердца.
Ⅴ Певец отер слезу, ‒ коснулся вновь перстами, Коснулся, загремел,
И сладкозвучными словами
Земных богов воспел;
Воспел великую из смертных на престоле, Ея победы в бранном поле,
Союз с премудростью ‒ любовь к благим делам, Награду ревностным трудам, И лиру окропя слезою благодарной, Во мзду щедроте излиянной, Он вновь умолк, восторгом упоен.
Но глас его в цепи времен
Бессмертную делами
Блюдет бессмертными стихами!
Ⅵ Спустились грации, переменили строй, Смягчился гром под гибкою рукой, И сельские послышались напевы, На звуки их стеклися девы.
Как легкий ветерок
Порхая чрез поля с цветочка на цветок, Кружится, резвится, до облак извиваясь: Так девы юные, сомкнувшись в хоровод, Порхали по холмам у тока чистых вод, Стопами легкими едва земле касаясь, То в горы скачучи, то с гор.
Певец веселый бросил взор.
(И мудрым нравится невинная забава).
Ⅶ Стройна, приятна, величава,
В одежде тонкой изо льна,
Без перл, без пурпура, без злата, Красою собственной богата Явилася жена;
В очах певца под пальмой стала, Умильный взгляд к нему кидала, Вия из мирт венок.
Звук лиры под рукой вдруг начал изменяться, То медлить, то сливаться;
Певец стал тише петь ‒ и наконец умолк.
Пришелица простерла руки,
И миртовый венок за сельских песней звуки,
Едва свила,
Ему с улыбкой подала;
Все девы в тот же миг во длани заплескали.
Ⅷ Где я?..
От изумления к восторгу преходя, Спросила я у тех, которы тут стояли? «На Званке», ‒ со всех стран ответы раздались. Постой, мечта… продлись!..
Хоть час один!.. но ах! сокрылося виденье,
Оставя в скуку мне одно уединенье [Бунина 2016, 84–87]
Вотличие от одического образа Державина, развернутого вⅡ‒Ⅴ строфоидах анализируемого стихотворения, с Ⅵ-го поэт явлен умиротворенным и домашним. Этот строфоид начинается мизансценой («Спустились грации, переменили строй…») в жанровой стилистике сельской идиллии. Сопоставим ее с державинской. В идиллии «Евгению. Жизнь званская» (1807), подготовленной вольным переводом горацианского претекста («Похвала сельской жизни», 1798), фактурные изображения «трудов и дней» лирического героя обусловлены парадигмой усадебной жизни с ее хозяйственными заботами, устоявшимися бытом и разнообразным досугом. Причем поэтический компонент этой жизни аксиологически уравнен с другими – мнемоническим, гастрономическим, охотничьим, природным и пр., образующими мозаичную композицию державинского существования, пронизанного онтологическим жизнелюбием. У Буниной же вся усадебная жизнь Державина сведена к его поэтическому деянию (неслучайно все фрагменты стихотворения отграничены упоминанием о пении под лиру). Фрагменты образуют нисходящую градацию – от небесного к земному, от божественного к человеческому, что подтверждается иерархическими жанрами хвалебной типологии – гимном, одой и идиллией.
Начало идиллического фрагмента обозначено стихами «Смягчился гром под гибкою рукой / И сельские послышались напевы», отсылающими к державинским из «Званки» («славлю сельску жизнь на лире» [Державин 1958, 263]), к написанной в 1797 г. и вошедшей позднее в «Анакреонтические песни» ‒ «К лире» ( «Петь откажемся героям / А начнем мы петь любовь» [Державин 1986, 363]). Фрагмент разделен на две мизансцены: первая комментируется ремаркой-парентезой «И мудрым нравится невинная забава» как умилительным оправданием поэта-ребенка, подхваченным неслучайно в Ⅵ строфоиде умилительным взглядом его жены. Топос первой мизансцены – «locus amoenus» (греч. «очаровательное место»), отграниченный хороводом и помеченный идиллическими маркерами – легким ветерком, чистым ручьем, полевыми цветами и не номинированными Буниной порхающими существами (Ср. у Буниной: «Что нимфы сельские хотят со мной играть, / И глядя на меня, с приятностью смеются; / Их также строен стан ‒ их также кудри вьются, / С такою ж легкостью мелькают на холмах» из стихотворения «Циклоп. Идиллия (Вольной перевод Феокрита)», 1806 [Бунина 2016, 64]).
Уподобление девичьего хоровода («Как легкий ветерок») придает ему характер феерического действа с превращенными участницами, а мизансцене – суммарной аллюзии на державинские «Русские девушки», «К грации», «Хариты» из тех же «Анакреонтических песен» (1804), а также на биографический эпизод из «Евгению…» («Внутрь дома тешимся столиц увеселеньем; / Велим талантами родных своих детям / Блистать: музыкой, пляской, пеньем. / Амурчиков, харит плетень, иль хоровод, / Заняв у Талии игру и Терпсихоры…») [Державин 1958, 266].
Развернутое в единое семистишное предложение уподобление, изобилующее глагольными формами, имитирует динамику происходящего, и в этом плане контрастирует со следующей мизансценой, точнее, с ее начальной – статичной – фазой, оформленной синтаксическим периодом, открывающимся перечислением оценочных эпитетов неименованной жены, что соответствует общему значению «женщина», и завершающимся единственным глаголом «явилася» (явила себя). Однако ее земной в отличие от предшествующих персонажей облик, пасторальное одеяние (лен – «северный шелк» – сквозной образ в поэзии Державина как атрибут женского естества: «Возвращение весны», «Хариты», «К грациям») и отсутствие аксессуаров, повторенные в статуарной, написанной позднее (1813), картине В. Боровиковского «Портрет Дарьи Державиной», сопоставимы с державинскими образами Милены («Хозяйка статная, младая» в «Приглашении к обеду», 1795 [Державин 1958, 150], «Пусть Даша статна, черноока / И круглолицая, своим / Взмахнув челом, там у потока…» в «Другу», 1795 [Державин 1958, 335], «Напиши мою Милену / Белокурую лицом, / Стройну станом, возвышенну, / С гордым несколько челом; / Чтоб похожа на Минерву…» в заказном экфрасисе «К Анжелике Кауфман», 1796 [Державин 1958, 330]). Дарья Алексеевна – земное воплощение державинского идеала жены, описанного в отношении и других женщин (генетлиакон «На рождение царицы Гремиславы. Л.А. Нарышкину» 1796 [Державин 1958, 157–160]; сонет «Блаженство супруги», посвященный жениной сестре, 1807 [Державин 1986, 106–107]). Комплиментарный облик Дарьи Алексеевны Бунина идентифицирует на основе державинских текстов, по сути, с чужих слов, но приватизирует их, тем самым, без собственного комментария, признает фактическое и модальное сходство своего, как бы стороннего, восприятия Милены с державинским, в чем нельзя не усмотреть женского хитроумия, польстившего мужскому самолюбию .
Продолженный же образ жены, наоборот, не подтверждается державинским, «задокументированным» в «Евгению…», где он вписывается в общий усадебный сюжет наравне с другими персонажами идиллической действительности. Событийная роль Дарьи Алексеевны ограничена хозяйством, прогулками, праздниками и досугом, а присутствие обозначено отчужденными словами «госпожа» («к госпоже, для похвалы гостей, / Приносят разные полотна, сукна, ткани…») [Державин 1958, 262], «хозяйка» («Идет за трапезу гостей хозяйка с хором…» [Державин 1958, 264]), чаще же общим с поэтом местоимением «мы» («Играем в карты мы…» [Державин 1958, 263]; «Иль смотрим, как вода с плотины с ревом льет…» [Державин 1958, 265]; «Иль стоя внемлем шум зеленых, черных волн…» [Державин 1958, 265]; выражающим «согласие с женой» [Державин 1958, 261]) и «Желание», 1797 («Лишь будь всегда со мною / Ты, Дашенька моя!» [Державин 1958, 356]). И ничего не сказано о ее отношении к творчеству Державина, притом, что «она была не только отличною хозяйкой, верною помощницей и утешительницей мужа, но умела также ценить и ободрять его поэтический талант» [Грот 1997, 448].
Но сошлемся на комментарий Я. Грота по поводу не законченного в 1797 г. и опубликованного лишь в 1859 г. стихотворения «Даше приношение»:
«Имя Даши означает вторую жену Державина, для угождения которой он, как упоминается в пьесе, предпринял сочинение Анакреонтических песней , желая доставить ей средства развести при доме сад» [Сочинения 1866, 365] [здесь и далее курсив авторский, если не указано иное – Б.И. ]. Этот рукописный текст Державина, возможно, намеренно незавершенный, с достаточной вероятностью объясняет умолчанное в «Званке…» отношение Дарьи Алексеевны к Державину-поэту. У Буниной же она предстает очеловеченной Афродитой, мифологические атрибуты которой (льняное одеяние , «грации»-хариты, локус воды и миртовый венок), конкретизированные женскими – поступью, портретом, мимикой и жестами, создают цельный образ, воспринимаемый в условном хронотопе Званки в модусе сценического жизнеподобия. Вызванное сельскими напевами кульминационное появление жены в 3-м, последнем, идиллическом , акте поэтического действа встречено затихающим песнопением Державина. Такая реакция, нарушающая рецептивное ожидание хвалебного посвящения жене, допускает следующее объяснение: молчанием завершается стихотворная (жанровая) идиллия в присутствии воплощенной в жене «жизненной» идиллии. Молчаливое признание Державина в этом жене вознаграждается молчаливым же возложением ею собственноручного (в дополнение к общественному лавровому) миртового венка «за сельских песен звуки», тем самым означивается избирательное, наиболее приемлемое для нее (и женского менталитета вообще) признание творческого дара поэта.
Апогеем этого немого диалога являются аплодисменты статистов – жестовый аналог античного хора. Обрывающие видение, они избавляют Бунину от прямого, как в предыдущих фрагментах, комментирования происходящего и опосредованно выражают согласное с ними, а через них и с женой, содержание умолчанной модальности автора. Однако если предшествующие мизансцены обрамляли парафразы державинских текстов и комментарии к ним, то последняя, наоборот, представлена во всей сценической полноте без парафразирования и комментариев и тем самым выделена из общего текста. В ней заключена сверхзадача, определяемая умолчанной адресованностью стихотворения жене, а не только Державину, заявленной в подзаголовке. Помимо комплиментарного, мизансцене придается затекстовое значение, она транслирует в усадьбу свое представление о должном отношении жены к поэту. Подсказанное же статистами место пребывания лирической героини экстраполирует визионерские отношения неименованных, но уже подразумеваемых Дарьи Алексеевны и Державина на реальные, усадебные, и в этом плане допускается, обсуждение послания адресатами.
Но послание предполагает и сообщение об адресанте. Топонимом Званка фиксируется пробуждение лирической героини, возвращающее ее из визионерской реальности в жизненную. Ее трансформированное в персонаж пребывание в нетопонимизированной Званке ничем, собственно, для нее не разрешается: эпилог смыкается с прологом без изменения ее экзистенциального status quo (одиночество). Но вновь обратимся к дважды произнесенному в прологе и однажды – в эпилоге слову «мечта» в составе волеизъявительных фраз «Не мешай мечтам ко мне спуститься», «отдамся я мечте своей», «Постой, мечта! продлись!..»). В отличие от первых двух, в которых слово «мечта» означивается желанием, в третьей фразе это слово номинирует сбывшееся, но умолчанное в прологе, желание, в сравнении с которым, наоборот, обозначенные в прологе остаются неразвернутыми в тексте и несостоявшимися в жизни. Кроме того, если в прологе лирическая героиня полагается на мечту для преодоления жизненных обстоятельств, то в эпилоге эмфатическая фраза («Постой, мечта! продлись!..») в содержательной связке с последним стихом («Оставя в скуку мне одно уединенье») заостряет разлад между мечтой и экзистенциальным настроением, выраженным Буниной, к примеру, в стихотворениях 1806 года с замаскированными подзаголовками «перевод» ‒ «К богине сновидений. Перевод» («Как я ‒ не зная сна отрады, / При свете дремлющей лампады, / С склоненной об руку главой, / Ужасны ночи провождаю, / Природы стройность нарушаю / Стенаньем, вздохами, тоской; / Как я ‒ с померкшими глазами, / Одна, среди холодных стен, / Покрыта бледностью, слезами, / Не чая горестям премен, / Завидую в гробах лежащим, / Спокойно ‒ крепко спящим... / Как я ‒ между ночных теней, / Не сделав зла ‒ но как злодей, / Пустые своды обтекаю, / Упряму парку умоляю, / И ‒ ах! живу, к тоске своей; / Живу... чтоб только вторить стон» [Бунина 2016, 75–76 ] и «Юному Поллуксу (перевод)» («Среди угрюмой тишины / Добычей став тоски душевной ˂…˃ Здесь ад в моем уединенье; / В нем горесть вечная, ‒ томленье, ‒ / В нем фурии терзают дух... ˂…˃ Ужасен вид моей темницы! ˂…˃ Теки со мной... наш сладок сон! / Доколь тебе влачить оковы? / Иль жертвы вымышляя новы, / Иль горестный пуская стон, / Ты мыслишь пременить судеб определенье? / Увы! удел твой: заблужденье») [Бунина 2016, 98–100].
Вероятностное преодоление жизненных обстоятельств заложено в целевой установке послания – посещение Званки, от которого зависят и уже не книжное знакомство с Державиным, и возможная реализация женской мечты («Со счастием союз свяжу»). Допустимое подтверждение этой возможности – в следующих ссылках, позаимствованных из комментариев М. Амелина и М. Нестеренко: «Тогда же [1805 г.; здесь и далее в квадратных скобках примечания наши – Б.И. ], видимо, Б. знакомится и с Иваном Ивановичем Дмитриевым, о чем свидетельствуют его “Стихи на получение от неизвестной особы вышитого по канве гения”, напечатанные в “Вестнике Европы”» (Вестник Европы. 1805. Ч. ⅩⅩⅡ. № 16 (авг.). С. 303). К.Я. Грот писал даже о более тесных отношениях Б. с Дмитриевым:
Очень вероятно, что Бунина была влюблена или неравнодушна к Дмитриеву [она вообще была натура увлекающаяся, даже страстная], но, несомненно, прежде всего она была горячая почитательница его поэтического творчества и после его отставки послала ему однажды [анонимно] в дар вышитого на канве гения. На этот случай Дмитриев, наверно, догадываясь, от кого дар, написал известное шестистишие [Грот].
И.И. Дмитриев, вероятно, на несколько лет становится объектом ее любовного чувства. Однако никаких достоверных свидетельств не осталось (Косвенным свидетельством можно считать слова Г.Р. Державина из письма к Дмитриеву от 10 ноября 1808 г.: «О чувствах Буниной к Дмитриеву знал между прочим и Державин, который в письме к И. И. 10 июля 1810 года писал:
Весьма ласкательно мне, что вы меня вспомнили, а более, что имели намерение ко мне заехать в деревню. Как бы я был рад! Несказанно бы вы меня одолжили!
˂…˃ С Анной Петровной мы иногда видимся и беседуем о вас, и как она застенчива и скромна, то при имени вашем всякий раз дрожит и заикается; это, я думаю, оттого, что столь нежного и приятного стихотворца, как вы, иначе невозможно вспомнить; однако как теперь разобран чрез Неву мост, то и не могу я ее скоро видеть и поблагодарить за то, что она подала повод ко мне писать [Сочинения Державина…1871, 192].
Судя по всему, Дмитриев собирался приехать к Державину в Званку вместе с Б. Вероятно, намерение осуществилось (см. примеч. к «Званские виды на Волхове»). См. также идиллию «Ливия» (1806) и «Похвалу любви» (1811), а также примеч. к ним [Бунина 2016, 31].
Если исходить из презумпции умолчанных желаний Буниной, то послание обретает смысл, обусловливающий и объясняющий его уклончивую поэтику, прежде всего, композицию жанровых мотивов. Семантические коннотации названия стихотворения позволяют именовать «сумерки» концептом с присущими ему и ставшими традиционными образами «ночной» медитации («Ночь», 1776, М.Н. Муравьева; «Прогулка в сумерках, или вечернее наставление Зораму», 1785, С. Боброва и т.д.), элегическими настроем и размышлениями, жанровыми и тематическими мотивами и эйдосами думы, грезы, сна / бессоницы, мечты, видения и пр., к примеру, у Буниной «Сон ли мне сладкий Вежды сомкнул? / Грезы ли дивны Думу влекут?» в стихотворении «На случай детского пиршества, бывшего в Павловске 1810 года июня 16 дня» [Бунина 2016, 217].
У Буниной видение в «Сумерках» предваряется обстоятельствами перехода лирической героини в инореальность и завершается ее пробуждением, и в этом плане соблюдается классическая для жанра композиция. Но автор производит, на наш взгляд, функциональную инверсию: видению, занимающему основное пространство текста, придается вспомогательное значение композиционной вставки, обрамленной основными мотивами – жалобы в сопровождении заявленных в прологе вариантов мечты. Содержание завершившегося видения не отвечает ни одному из них, оба варианта остаются нереализованными желаниями. Вторичность видения аргументируется следующими доводами. 1. Из названия опубликованного стихотворения изъято слово «видение»; 2. В отличие от переменных отношений Буниной и Державина ее экзистенциальное самочувствие является величиной постоянной; 3. Сложенный из конспективных парафраз державинских стихов образ поэта не является оригинальным в сравнении с образами Державина ее старших современников, созданными до первой публикации «Сумерек» («Письмо к творцу оды, сочиненной в похвалу Фелицы, царевне Киргизкайсацкой», 1783, Е.И. Кострова, «Письмо к Ломоносову 1784 года» О.П. Козодавлева, «Сатира к С˂перанскому˃ об истинном благородстве», 1806, А.И. Воейкова, «Гавриле Романовичу Державину», 1804, Д.И. Хвостова, эпистола «К Г.Р. Державину», 1805, И.И. Дмитриева).
Оригинальность же стихотворения Буниной именно в визионерском образе Державина. Этот образ, вполне способный вызвать ироническую насмешку, хитроумно заключен в жанр видения, с одной стороны, взявшего на себя ответственность за изображенное и оправдывающего тем самым Бунину, а с другой стороны, являющегося окказиональным жанром славословия. Словословие адресата в совокупности с жизненной жалобой адресанта, его высказанным желанием (мечты) и адресацией послания, признаны риторикой типичными компонентами просьбы как речевого жанра, в данном стихотворении – сфокусированного на ответном приглашении в Званку, но без изложения самой просьбы. И в этом плане волеизъявительный призыв лирической героини «Постой, мечта! продлись!..» уже воспринимается не только прощанием с визионерской Званкой, но и заявкой на посещение реальной.
В целом же, уклончивый речевой стиль «Сумерек» (остранение, аллюзии, реминисценции, умолчания, обрывы, вставки) и их жанровая композиция, соответствующие умолчанной цели авторского послания, оказались незнакомыми современникам, однако они инициировали традицию женской ars poetica, в частности, опубликованное в 1840 г. дидактическое стихотворение Е. Ростопчиной «Как должны писать женщины» [Ростопчина 1972].