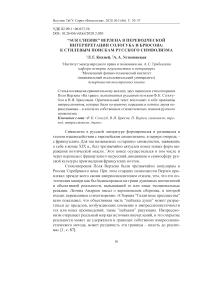"Sur l’herbe" Верлена в переводческой интерпретации Сологуба и Брюсова: к стилевым поискам русского символизма
Автор: Кихней Любовь Геннадьевна, Устиновская Алена Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сравнительному анализу двух переводов стихотворения Поля Верлена «На траве», выполненных русскими поэтами Ф.К. Сологубом и В.Я. Брюсовым. Оригинальный текст воплощает в себе принципы импрессионизма, которые были по-разному переданы и поняты двумя переводчиками - в ключе их собственных стилистических поисков русского символизма.
Ф.к. сологуб, в.я. брюсов, п. верлен, символизм, перевод, импрессионизм, диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/146281724
IDR: 146281724 | УДК: 82.09-1: | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.050
Текст научной статьи "Sur l’herbe" Верлена в переводческой интерпретации Сологуба и Брюсова: к стилевым поискам русского символизма
Символизм в русской литературе формировался и развивался в тесном взаимодействии с европейским символизмом, в первую очередь – с французским. Для так называемых «старших» символистов, заявивших о себе в конце XIX в., был чрезвычайно актуален поиск новых форм выражения поэтической мысли. Этот поиск осуществлялся в том числе и через переводы с французского на русский, вводившие в семиосферу русской культуры произведения французских поэтов.
Стихотворения Поля Верлена были чрезвычайно популярны в России Серебряного века. При этом старших символистов Верлен привлекал прежде всего своим импрессионистским стилем, тем, что его поэтическая манера как бы балансировала на грани душевных впечатлений и объективной реальности, вызывавшей те или иные эмоциональные реакции. Леонид Андреев писал о верленовском сборнике, в которой входит переводимое стихотворение: «Сборник “Галантные празднества” ясно показывал, что объективная часть “пейзажа души” может разрастаться до пределов, возбуждающих сомнение в импрессионистичности тех или иных произведений, такие ”пейзажи” рисующих. Импрессионизм открывает реальный мир как источник впечатлений, и это открытие реальности может не удержаться в границах собственно импрессионистического метода, может раздвинуть эти границы – вплоть до реализма» [1, с. 87].
В сборнике «Галантные празднества» одним из наиболее импрессионистичных произведений можно назвать небольшую 12-строчную зарисовку «На траве», само название которой отсылает к двум шедеврам импрессионизма в живописи.
«На траве» Верлена представляет собой реплику в культурном диалоге, начатом двумя живописцами-импрессионистами. Название «На траве» апеллирует к известному «обмену репликами» двух живописцев – Эдуарда Мане и Клода Моне. В 1863 г. Мане написал скандальную картину «Завтрак на траве», изображающую двух мужчин, завтракающих на берегу реки в компании обнаженных девушек. Неприятие публики вызвало противопоставление одетых мужчин нагим девушкам и размещение обнаженной женской фигуры на первом плане картины. В 1866 г. Клод Моне создал одноименную картину, на которой группа людей, мужчин и женщин, благопристойно одетых, также завтракает на траве [8].
Верлен, называя свое стихотворение 1869 года «На траве», апеллирует скорее к первому, скандальному, варианту картины. В то же время он поэтическими средствами воплощает в этой зарисовке принципы импрессионизма, которых придерживались оба французских художника [7]. Поэтический импрессионизм выразился в том, что стихотворение состоит из череды реплик, принадлежащих, очевидно, двум загулявшим собеседникам, которые называют друг друга «маркиз» и «аббат» (что намекает на некое нарушение запрета, как минимум, со стороны аббата). Обмен репликами имитирует «пьяный» диалог, практически лишенный логики. За обменом репликами угадывается мотив, чрезвычайно важный для другого смыслового источника поэтики «старших» символистов: мотив «преступания» морали, упадка – декаданса. Аббат нарушает ряд запретов и делает то, что ему как духовному лицу, делать не пристало.
Реплики размещены в стихотворении без подписей, читателю предлагается самому догадаться, кто что говорит. Беспорядочные высказывания, подобно широким мазкам в импрессионистических картинах, сливаются в некую целостную картину. Так, композитор Морис Равель, написавший на эти стихи одноименный романс, указывал, что это небольшое произведение представляет собой картину в духе Ватто [9, с. 123]. Равеля привлекло также использование в тексте нот, имевшее, впрочем, скорее символическое, чем музыкальное значение.
“Sur l’herbe” привлекло внимание двух поэтов-переводчиков, принадлежащих к поколению «старших» символистов, – Федора Сологуба и Валерия Брюсова. Для обоих интерес к Верлену не случаен, и перевод становится способом не только освоить новую форму, но и наполнить ее новым содержанием.
Федор Сологуб переводил с французского стихи многих прославленных поэтов: Гюго, Леконта де Лиля, Рембо и Малларме. Наиболее зна- чительный вклад Сологуб-переводчик внес в распространение на русской почве стихотворений Поля Верлена, к творчеству которого он обращался, «потому что любил его» [4, с. 3]. Сологуб в своих переводах Верлена опирался на концепцию «мистической иронии», принятия мира в его поэтическом преображении: «Принципы мистической иронии отвечали умонастроению самого Сологуба, действительно сумевшего, хотя и сквозь образный флер несколько навязчивого мифа, прозорливее многих своих как русских, так и французских современников определить своеобразие поэтического мира Верлена» [2, с. 135]. Переводы Верлена, выполненные Сологубом, отличаются необыкновенной точностью, граничащей с буквализмом [5].
К творчеству Верлена обращался и Валерий Брюсов, которому принадлежат переводы нескольких сотен стихотворений французского поэта. В сборнике переводов Верлена, изданном в 1911 г., Брюсов отмечает свои принципы переводчика: он стремится передать русскому читателю то же впечатление, которое испытывает французский читатель при чтении оригинала [3, с. 10]. Стихотворение «На траве» Брюсов относит к юношеским стихам Верлена, в которых автор «стремился <…> к четкости и скульптурности образов, к чистоте и некоторой величавости речи, охотно играя при этом словами, теша себя экзотическими именами и редкими выражениями» [Там же, с. 10].
Рассмотрим оба перевода, выполненных русскими поэтами, в сопоставлении с оригиналом. Для наглядности сопоставления размещаем тексты в следующей таблице:
|
Оригинал П. Верлена |
Перевод Ф. Сологуба |
Перевод В. Брюсова |
|
L’abbé divague. – Et toi, marquis, |
Аббат хмелен. Маркиз, ого! |
– Аббат, ты мелешь вздор! – Маркиз, |
|
Tu mets de travers ta per-ruque. |
Поправить свой парик сумей-ка. |
Ты свой парик напялил худо! |
|
– Ce vieux vin de Chypre est exquis |
– Вино из Кипра, Камарго, |
– Дитя, ты краше всех актрис, |
|
Moins, Camargo, que votre nuque. |
Не так пьянит, как ваша шейка. |
А кипрское сегодня – чудо! |
|
– Ma flamme… – Do, mi, sol, la, si. |
– Огонь мой... – До, ми, соль, ля, си. |
– Моя любовь… – До, ре, ми, соль… |
|
– L’abbé, ta noirceur se dévoile. |
Аббат, ты распахнул сутану. |
– Смотри, аббат, не все стерплю я! |
|
– Que je meure, mes-dames, si |
– О дамы, черт меня носи, |
– Ах, для тебя, дитя, позволь, |
|
Je ne vous décroche une étoile. |
Коль с неба звезд вам не достану. |
Вот эту звездочку сорву я. |
|
– Je voudrais être petit chien! |
– Собачкой стать бы – не беда. |
– Когда б я был собачкой сам… |
|
– Embrassons nos bergères, l’une |
– Одну, другую, поцелуем |
– О, мрак, мечтам благоприятствуй |
|
Après l’autre. Messieurs, eh bien? |
Пастушек наших. – Господа! |
Позволь обнять любезных дам… |
|
– Do, mi, sol. – Hé! bon-soir, la Lune! |
– До, ми, соль. – Эй, луна, пируем! |
– Как смели вы… Ба, месяц, здравствуй! |
Как можно видеть из приведенной таблицы, оба переводчика достаточно точны и верны принципам буквализма. Однако между двумя трактовками есть ряд семантически значимых различий. Первое из них касается общего настроя диалога, который Сологубу удалось передать ближе к оригиналу, чем Брюсову. Во второй строфе Брюсов вместо констатации («твоя сутана расстегнута») вводит мотив ревности: после вполне невинной реплики с нотами «до, ре, ми, соль» следует реакция «смотри, аббат, не все стерплю я!» – очевидно, «за кадром» аббат перешел к активным действиям по отношению к одной из девушек – видимо, к той, которую выбрал себе и маркиз.
В оригинале герои не соперничают: аббат и вовсе призывает обнимать “l’une aprѐs l’autre” – «одну после другой». Да и после «распахнутой сутаны» аббат произносит фразу, обращенную сразу к обеим: «Дамы, пусть я умру, если не достану вам звезду с неба». У Сологуба аббат так и обращается к двоим: «О дамы». У Брюсова аббат обращается к одной девушке: «дитя». Далее мотив ревности углубляется Брюсовым в третьей строфе: на месте реплики маркиза “Messieurs, eh bien?” («Итак, господа?»), подразумевающей вполне невинный и не угрожающий по смыслу вопрос («Итак, что будем делать дальше?»), у Брюсова герой говорит: «Как смели вы…» – что опять-таки подразумевает некое соперничество маркиза и аббата. Перед этим аббат у Брюсова произносит: «Позволь обнять любезных дам».
Иными словами, аббат Брюсова, как и в тексте Верлена, предлагает уделить внимание обеим дамам, а вот маркиз у Брюсова, очевидно, выделил для себя одну и ревнует ее к аббату. Кроме того, в третьей строфе у Брюсова уже в самом начале появляется упоминание, что на улице стемнело: «Мрак, мечтам благоприятствуй». Персонажи Брюсова мечтают обнять дам в темноте, словно осознавая, что они делают нечто запретное и непозволительное. В то же время в оригинале священник никак не обозначает, что он делает что-то неправильное: он предлагает «обнять наших пастушек одну после другой», и мрак никак не может помочь или помешать ему.
Таким образом, в переводе Сологуба нет и намека на ревность, Брюсов же вводит агрессивные реплики маркиза, показывающие, что он пытается оттолкнуть аббата от девушек. По нашей гипотезе, перевод Сологуба выполнен раньше, чем перевод Брюсова: Сологуб работал со стихотворениями Верлена в 1890-х гг., тогда как Брюсов – в начале 1900-х (в издании Верлена Брюсов ссылается на переводы Сологуба, следовательно, он с ними знаком [2, с. 8]). Таким образом, текст Брюсова является репликой на текст Сологуба и своеобразным воспроизведением «пикирования» живописцев Мане и Моне. В тексте Сологуба аббат совершенно не задумывается о том, что делает нечто запретное, нарушающее данный им обет. Одергивающие реплики маркиза, введенные в текст Брюсовым, могут быть истолкованы не только как признак ревности, но и как попытка придать пирушке видимость благопристойности: маркиз останавливает аббата, намеревающегося обнять девушек, и сам аббат понимает, что его действия не вполне одобряемы обществом, и хочет дождаться темноты, чтобы его не было видно. Иными словами, текст Брюсова является более «пуританским», благопристойным – как и более поздняя картина Моне по сравнению с картиной Мане.
Однако следует отметить, что в тексте присутствует и некий шифр, показывающий ироническое отношение автора к описываемым событиям. Это произносимые аббатом ноты, в переводе которых Брюсов допустил отклонение от текста оригинала, а Сологуб строго следовал Верлену, воплощая тем самым его «мистическую иронию». В первый раз аббат произносит названия нот во второй строфе, затем – «До, ми, соль» – в третьей. У Брюсова в первом случае аббат говорит «До, ре, ми, соль…», а второй случай использования нот и вовсе пропущен. В целом использованные аббатом ноты могут обозначать просто забавное пьяное напевание, однако следует отметить, что напевают чаще слова некой мелодии, чем ноты.
Для расшифровки смысла введенных в текст нот обратимся к их полным названиям. Общепринятые названия нот восходят к гимну Иоанну Крестителю, который был использован для мнемонической техники монахом Гвидо д’Ареццо: “UT queant laxis / REsonare fibris / MIra gesto-rum / FAmuli tuorum / SOLve pollute / LAbii reatum / Sancte Ioannes” (в переводе с латинского: «Чтобы слуги твои голосами своими смогли воспеть чудные деяния твои, очисти грех с наших опороченных уст, о Святой Иоанн») [10, p. 171].
Первоначальное UT для удобства пропевания было превращено в DO – сокращение от Dominus, «Господь». Аббат Верлена, каким бы порочным и развратным он ни был, вероятно, знает латынь и знаком со значениями тех слов, к которым восходят названия нот. Таким образом, произносимая им в первый раз фраза расшифровывается как “Dominus, mira solve labii Sancte Ioannes” (приблизительно: «Господь, чудесно очисти уста, о Святой Иоанн»), а вторая – “Dominus, mira solve” («Господь, чудесно очисти»). Таким образом, в тексте все же присутствует намек на то, что аббат чувствует свои деяния греховными и невзначай просит Господа очистить его грехи и оскверненные уста.
Сологуб сохранил в тексте эту «молитву нот», что делает его текст еще ближе к оригиналу: ему удалось не только верно передать настрой собеседников по отношению к девушкам и друг к другу, но и обозначить, пусть и завуалированную, просьбу священника к Господу. Брюсов же принял ноты за пропевание какой-то песенки и не сохранил их порядка, использованного автором (брюсовское «До, ре, ми, соль» соответствует “Dominus, resonare mira solve” и не имеет внятного смысла).
Таким образом, Сологубу удалось передать в небольшой зарисовке ту «мистическую иронию» в отношении к действительности, которую он особенно ценил в стихотворениях Верлена. У Брюсова же полностью сохранена форма стихотворения-диалога, нетипичного для классической русской поэзии, однако утрачена символизация нот. Обращаясь к межкультурному и межъязыковому диалогу Мане – Моне – Верлена – Сологуба, Брюсов не принял в расчет музыкальную составляющую (отмеченную и оцененную еще одним участником этой цепочки – Морисом Равелем), что, безусловно, не умаляет ценности выполненного им виртуозного перевода.
Без преувеличения можно сказать, что Верлен стал «точкой опоры» для старших символистов, создававших принципы поэтики русского символизма в неустанном философском, стилистическом и интертекстуальном поиске. Переводы из французского поэта воспринимались как перенос на русскую почву философско-этических (имморальных) и стилевых (импрессионистических) установок французского символизма. Причем импрессионистическая манера письма французских предшественников воспринималась обоими родоначальниками русского символизма не только в живописно-изобразительном аспекте (с экфрасисными отсылками к полемике художников-импрессионистов), но и в разговорно-диалогическом ключе. Ведь именно стремительная смена реплик героев и создавала тот неповторимый эффект постоянной изменчивости бытия и сознания в их напряженной слитности и перетекании друг в друга, что впоследствии станет визитной карточкой русского символизма.
В то же время разница переводов обозначила различие путей, по которым в дальнейшем пойдет развитие русского символизма. Первый (намеченный брюсовским переводом) – «неокантианский» – путь постулировал замкнутость и непознаваемость реального мира, тождественного самому себе. Второй (намеченный сологубовским переводом) – «неоплатонический» – путь утверждал некую невидимую связь мира реального с «иными мирами», глубинными сущностными началами (одним из воплощений которых считалась музыка). Этот путь – с опорой на неоплатонические постулаты Вл. Соловьева – продолжили младосимволисты – А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов и др.
УСТИНОВСКАЯ Алена Александровна – кандидат филологических наук, доцент департамента иностранных языков, Московский физико-технический институт (141701 г. Долгопрудный, Институтский пер., 9), e-mail: alyonau1@ yandex.ru .
About the authors:
USTINOVSKAYA Alena Aleksandrovna – Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Foreign Languages, Moscow Institute of Physics and Technology (141701, Moscow, Dolgoprudny, Institutsky lane, 9), e-mail: alyonau1@ yandex.ru .
Список литературы "Sur l’herbe" Верлена в переводческой интерпретации Сологуба и Брюсова: к стилевым поискам русского символизма
- Андреев Л.Г. Импрессионизм. Видеть. Чувствовать. Выражать. М.: Гелеос, 2005. 320 с.
- Багно В.Е. Федор Сологуб - переводчик французских символистов // На рубеже XIX и XX веков. Л.: Наука, 1991. С. 129-214.
- Верлен П. Собрание стихов в переводе Валерия Брюсова. М.: Скорпион, 1911. 276 с.
- Верлен П. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом. СПб.: Факел, 1908. 89 с.
- Волошин М. Поль Верлэн. Стихи избранные и переведенные Ф. Сологубом [Электронный ресурс] // Сологуб Федор Кузьмич. URL: http://sologub.lit-info.ru/sologub/articles/voloshin-verlen-sologub.htm. (Дата обращения: 01.06.2020.)
- Кто придумал названия семи нот и что они значат в переводе с латинского? [Электронный ресурс] // Прикольно. URL: http://prikolno.cc/article/2129/ktopridumal-nazvanija-semi-not-i-chto-oni-znachat-v-perevode-s-latinskogo. (Дата обращения: 30.05.2020.)
- Федотова В.Е. Становление импрессионизма в поэзии Поля Верлена: дис.… канд. филол. наук: 10.01.03 / В. Е. Федотова; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2004. 195 с.
- Bonafoux P. Correspondances impressionnistes: Du côté des peintres. D. de Selliers, 2008. 459 p.
- Ravel M. Songs 1896-1914 / E. by Arbie Orenstein. NY.: Dover publ., 1990. 131 p.
- Verlaine P. Fêtes galantes. Léon Vanier, libraire-éditeur, 1891. 320 p.