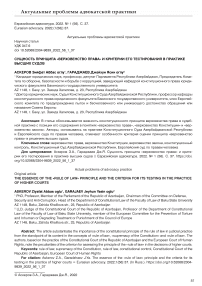Сущность принципа "верховенство права" и критерии его тестирования в практике высших судов
Автор: Аскеров Зияфат Аббас Оглу, Гараджаев Джейхун Ясин Оглу
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы адвокатской практики
Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается важность конституционного принципа верховенства права в судебной практике с позиции его содержания в понятиях «верховенство права», «верховенство Конституции» и «верховенство закона». Авторы, основываясь на практике Конституционного Суда Азербайджанской Республики и Европейского суда по правам человека, отмечают особенности критерия оценки принципа «верховенство права» в решениях высших судов.
Верховенство права, верховенство конституции, верховенство закона, конституционный контроль, конституционный суд азербайджанской республики, европейский суд по правам человека
Короткий адрес: https://sciup.org/140293908
IDR: 140293908
Текст научной статьи Сущность принципа "верховенство права" и критерии его тестирования в практике высших судов
В современной юридической литературе принято считать, что принцип верховенства права уходит корнями в начало ХІІІ века, когда абсолютная власть монарха была впервые ограничена в пользу прав и свобод его подданных. Подписание Великой Хартии вольностей (лат. Magna Carta, также Magna Charta Libertatum) в 1215 г. заложило основу для развития как доктрины конституционализма, так и неразрывно связанного с ней принципа – принципа верховенства права.
Исследователи отмечают, что «начало теоретического обоснования современной доктрины верховенства права было положено в XVII веке Дж. Локком в его идее о зависимости легитимного правления от общественного согласия» [1, c. 106] и что «доктрина верховенства права как некая система взглядов на устройство и развитие правовой действительности формировалась на протяжении нескольких столетий, при этом исторически ее «родиной» принято считать систему общего англосаксонского права, где впервые было определено ее содержание, впоследствии позволившее утвердить верховенство права в качестве фундаментального конституционного принципа английского права. Традиционно первым доктринальным источником представлений о верховенстве права признается труд английского ученого А.В. Дайси об основах государственного права Англии [2]. Им были концептуально обоснованы значение и сущность верховенства права, в том числе выделены такие составляющие этого явления, как недопущение злоупотребления администрацией ее властью, подчинение всех подданных страны английским законам и судам, судебная защита прав и свобод человека» [3].
По мнению исследователей, «одно из последних определений понятия «верховенство права» было дано лордом Томасом Бингхемом: «Все лица и власти в государстве, будь то публичные или частные, должны быть связаны и иметь право пользоваться законами, публично принятыми, относящимися (в целом) к будущему и публично исполняемыми судами». Данное определение было во многом поддержано в докладе Венецианской комиссии о верховенстве права 2011 года» [1, c. 106].
Столь давние истоки принципа верховенства права не могут не вызывать вопроса о его актуальности в настоящее время. В связи с этим следует учитывать справедливое замечание специалистов о том, что «верховенство права – это живой инструмент, который изменяется в зависимости от вызовов, стоящих перед государством и обществом» [4].
Ученые предлагают называть принцип верховенства права «оболочкой», которая существует вокруг группы конституционных принципов [5]. Следует согласиться с этим утверждением.
Обобщая положения двух приведенных выше тезисов, будет справедливым утверждать, что принцип верховенства права включает в себя наиболее актуальные для современного этапа развития государства и общества конституционные принципы.
Принцип верховенства права пронизывает все правовое пространство общества, оказывая наиболее серьезное влияние на государство. Именно поэтому в юридической литературе авторы стремятся выделить его из числа иных принципов конституционализма, конституционных принципов. О.Ф. Скакун, например, пишет: «Верховенство права (власть права) является высшим принципом» [6]. И.М. Илиопол, анализируя принцип верховенства права в международном и национальном праве, отмечает, что «по своему характеру принцип верховенства права является общепринятым принципом международного права jus cogens, что связано с особенным значением верховенства права для современного демократического общества. Эта норма считается общепризнанной, надимперативной нормой международного права и имеет высшую юридическую силу. Это значит, что позитивное право должно соответствовать положениям этой нормы, иначе оно должно признаваться юридически недействительным, а национальные суды должны непосредственно его применять при принятии своих решений» [7].
Венецианская комиссия предлагает считать, что на современном этапе для государств – членов Совета Европы принцип верховенства права выступает в качестве наиболее важного принципа, «мета-принципа», и включает в себя такие принципы, как принцип верховенства Конституции, принцип признания Конституции Основным законом, принцип судебного контроля [8].
Таким образом, использование принципа верховенства права в решениях высших судов вызывает логический вопрос о критериях его тестирования. Следует отметить, что, как и любой другой важной для общества и государства ценности (принципу) – справедливости, равенству, соразмерности и т. п., верховенству права присущ идеальный характер. По этому поводу В.Е. Чиркин отметил: «В различных документах верховенство права (в славянской и иных формулировках) названо идеей, идеалом, ценностью, принципом, в научных исследованиях используются также термины «концепция» и «доктрина». Видимо, в зави- симости от ситуации и в связи с тем, какое место занимает верховенство права среди устоев общества той или иной страны, это положение может иметь разный характер. Для международного права это в значительной мере призыв, обращенный к государствам мира, он действительно является идеалом» [9, c. 7]. Отметим, что идеальный характер присущ верховенству права не только на международном, но и на национальном уровне.
Следует отметить, что принцип верховенства права прямо в Конституции АР не закреплен. Однако в Преамбуле Основного закона в числе намерений народа Азербайджана провозглашается стремление «в качестве выражения воли народа построить правовое, светское государство, обеспечивающее верховенство законов» [10].
То, что в тексте Основного закона АР не встречается словосочетание «верховенство права», является достаточно типичным для современных постсоветских конституций. Исследователи подчеркивают: «Для государств, где в конституциях (основных законах) такой формулировки нет, он идея, рассредоточенная в различных частных положениях (верховенство конституции, верховенство закона, законность, требования соблюдения закона и др.)» [9]. Это обосновано также с позиции конституционного контроля, так как высшие судебные органы, тестируя принцип верховенства закона, в своих оценочных заключениях основываются на формально-определенной норме, Законе.
В.Е. Чиркин, рассматривая причины отсутствия словосочетания «верховенство права» в Основном законе Российской Федерации, обращается как к историческому контексту подготовки его положений, так и к истории конституционного развития в советский период. Он отмечает: «В конституциях СССР и советской России формулировка «верховенство права» никогда не использовалась. В Конституции РФ 1993 г. содержатся положения о правовом государстве, о высшей юридической силе Конституции (ч. 1 ст. 15), есть идея верховенства права, используется слово «верховенство». В ч. 2 ст. 4 говорится: «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации». Однако это слово имеет определенный акцент. Речь идет не о верховенстве права как такового, а о верховенстве на всей территории РФ (например, по отношению к актам субъектов РФ и в определенном смысле, в частности, в связи с ролью Конституции РФ по отношению к международным актам). Кроме того, сказано не о верховенстве права как такового, а о верховенстве Конституции и законов. В период
«парада суверенитетов», когда разрабатывалась и принималась Конституция РФ, этот территориальный акцент, в том числе на отношениях Федерации и ее субъектов (верховенство на всей территории), был очень важен.
Определенный ограничительный характер имеет и перечень конкретных правовых актов (Конституция и законы). Правда, иногда слово «закон» имеет обобщающее значение в смысле всякого нормативного правового акта (особенно в англосаксонской семье права), но все-таки словосочетания «верховенство права» в Конституции РФ нет» [11]. Учитывая особенности различия правовых семей, влияние естественно-правовой идеологии на правовые системы, иерархичность в системе права, следует отметить соотношение между похожими по наименованиям, но существенно отличающимися друг от друга по содержанию понятиями «верховенство права», «верховенство закона» и «верховенство Конституции».
Следует признать, что понятие «верховенство права» включает в себя иные, упомянутые выше понятия. Хотя этот тезис с учетом его применения к различным системам права не абсолютен.
Наиболее тесно понятие «верховенство права» связано с понятием «верховенство закона». В Резолюции 1594 (2007)1 Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященной принципу верховенства права, Парламентская ассамблея обращает внимание на тот факт, что в некоторых молодых демократических государствах Восточной Европы юристы в основном склоняются к пониманию термина «Rule of Law» как «supremacy of statute law», т. е. «верховенство закона». Однако термин «Rule of Law» следует переводить на русский язык как «верховенство права» (п. 4 Резолюции) [12]. Ж.У. Тлембаева отметила, что «обеспечение принципа верховенства права невозможно без признания и реализации принципа верховенства закона, который выражается в требовании неукоснительного соблюдения и следования законам всеми лицами, находящимися в пределах юрисдикции государства, и государственными органами власти. Так называемый примат закона, который является одним из ключевых элементов верховенства права, присутствует в каждом современном правовом государстве и гарантируется конституцией» [13].
Следует уточнить то, как Ж.У. Тлембаева пояснила сущность принципа верховенства закона. Более справедливым будет вести речь о том, что этот конституционный принцип сосредоточивается не вокруг понятия «закон», а вокруг понятия «законодательство». В каждой стране содержание этого принципа будет уточняться в зависимости от того, какие именно нормативно-правовые акты включаются в понятие «законодательство» (см. ст. 148 Конституции АР).
Может показаться, что конституционному принципу верховенства закона присущ некоторый нормативистский акцент, однако это впечатление будет не совсем верным. В любом современном государстве, независимо от того, к какой правовой семье оно относится, наиболее важные правовые предписания в наиболее концентрированном, с точки зрения их количества, виде содержатся именно в актах законодательства, а не в судебных прецедентах, доктринальных источниках и т. д. Также следует подчеркнуть, что важнейшие международные документы, на основе которых осуществляется правозащитная деятельность, после их ратификации считаются частью национального законодательства, что существенно модернизирует принцип верховенства закона.
То, что сущность принципа верховенства закона определяется с учетом нормативного определения понятия «законодательство», не означает однако, что следует полностью обходить вниманием понятие «закон».
Какому бы определению понятия «законодательства» – в узком понимании (как совокупности законов), в широком понимании (как совокупности законов и иных нормативно-правовых актов центральных органов государственной власти) или в наиболее широком понимании (как совокупности всех нормативно-правовых актов) – ни было отдано предпочтение в национальном законодательстве, это определение будет обязательно охватывать законы.
Это нормативное определение полностью соответствует доктринальной дефиниции понятия «закон».
Закон – это нормативно-правовой акт, принятый парламентом либо народом на референдуме с соблюдением особой процедуры, который регулирует наиболее важные общественные отношения.
При рассмотрении закона как источника права, а также конституционных принципов следует принять во внимание следующие важнейшие характерные черты этого вида нормативно-правовых актов: они принимаются либо парламентом при участии главы государства, либо на референдуме; при их принятии необходимо соблюдение довольно сложной законодательной процедуры; законы регулируют наиболее важные общественные отношения.
В совокупности эти характеристики обусловили, что: законы не всегда принимаются настолько 40
быстро, насколько этого требуют нуждающиеся в правовом урегулировании общественные отношения; положения законов в большинстве своем нуждаются в их дальнейшей конкретизации, которая осуществляется при помощи подзаконных нормативно-правовых актов.
Значительное количество законов и конкретизирующих их подзаконных актов часто приводит к ряду сложностей в практической реализации принципа верховенства закона, в особенности при оценке этого принципа судами. Подобные проблемы возникают в каждом государстве. Например, применительно к Российской Федерации Л.Л. Сабирова обобщила существующие проблемы реализации идеи верховенства закона в Российской Федерации на современном этапе, к числу которых отнесла такие как:
«– внутренняя несогласованность самого законодательства: зачастую закон, обрастая многочисленными подзаконными актами, теряет свой первоначальный смысл;
– в целом ряде случаев затруднено применение законов в связи с несовершенством законодательной техники;
– при принятии законов не соблюдается основной их признак – регулирование наиболее важных сфер общественной жизни» [14].
В этом контексте следует отметить, что в АР наиболее важной является упомянутая Л.Л. Сабировой проблема внутренней несогласованности законодательства, однако не в части внутренней несогласованности законов и конкретизирующих их подзаконных актов, а в части противоречий, возникающих между положениями различных законов.
Итак, принцип верховенства закона полностью охватывается принципом верховенства права. Следует отметить, что принцип верховенства права во многом обогащает современное понимание верховенства закона, которое получает в свете верховенства права содержательное развитие, в частности, за счет наполнения его также международными договорными установлениями и необходимостью создания механизмов реализации принципа pacta sunt servanda («договоры должны выполняться»). Такое развитие осуществляется и в связи с указанием пределов законодательного воздействия на общественные отношения. Благодаря подобному «обогащению» верховенство закона становится более эффективным инструментом обеспечения демократичности правового развития [15, c. 40].
Принцип верховенства права полностью охватывает и такой конституционный принцип, как принцип верховенства Конституции. Однако с этим тезисом соглашаются далеко не все исследователи. Например, С.А. Грачева считает, что взаимосвязь и соотношение принципов верховенства права и верховенства Конституции представляет собой проблему, которая требует своего решения. Она пишет: «Актуален вопрос о степени отождествления данных принципов правового развития в связи с тем, что многие конституционные ценности являются, по сути, конституционным воплощением цивилизационных и общепризнанных правовых ценностей (наиболее яркой иллюстрацией служит институт основных прав и свобод человека). В этом смысле обеспечение верховенства права сопоставимо с обеспечением верховенства конституционных принципов и норм» [15, c. 40]. Навряд ли возможно согласиться с предложением С.А. Грачевой рассматривать понятия «принцип верховенства права» и «принцип верховенства конституции» как синонимы. Это будет способствовать сужению сущностного и содержательного наполнения понятия «принцип верховенства права».
Что же касается соотношения принципов верховенства закона и верховенства Конституции, то они соотносятся между собой как общее и частное, ибо Конституция является Основным законом. Однако принцип верховенства Конституции в своем содержании имеет положения, которые не могут быть отнесены к сущностной характеристике принципа верховенства закона, так как далеко не все текущие, конституционные и другие законы имеют, например, высшую юридическую силу, как ее имеет Основной закон.
В настоящее время существуют два подхода к содержанию принципа верховенства Конституции. Исторически первым является узкий подход, в соответствии с которым содержание принципа верховенства Конституции состоит в том, что ее положения обладают высшей юридической силой. Им должны соответствовать все нормативноправовые акты национальной системы законодательства [см., напр.: 16].
Второй, относительно широкий, подход к содержанию принципа верховенства Конституции был предложен Б.А. Страшуном. В своих работах он предложил расширить узкий подход и под верховенством Конституции понимать не только соответствие ее положениям любого нормативно-правового акта, но и соответствие любого действия органа власти или должностного лица Конституции [см., напр.: 17].
Представляется, что в конституционно-контрольной практике следует отдавать предпочтение первому подходу к содержанию принципа верховенства Конституции, ибо, по сути, когда органы публичной власти и должностные лица в своей деятельности придерживаются норм Основного закона, они тем самым признают как их верховенство в частности, так и их общеобязательность в целом.
Кроме того, не только органы публичной власти и должностные лица должны соблюдать положения Основного закона. Неуклонная и тщательная реализация принципа верховенства Конституции всеми субъектами права является крайне важной. Как подчеркивает С.В. Нарутто, «верховенство Конституции подразумевает недопустимость искажения сущности конституционных норм текущим законодательством, а также их различного понимания и применения» [18, c. 32]. По ее мнению, «в обеспечении данного принципа участвуют многие органы государственной власти, но особая ответственность за фактическое состояние конституционного правопорядка, при всей важности правотворческих полномочий парламента, возлагается на конституционное правосудие» [18, c. 32].
Итак, разграничив такие важные конституционные принципы, как верховенство права, верховенство закона и верховенство Конституции, следует отметить, что органы конституционного контроля, особенно в постсоветских странах, за основу оценочных тестов практически всегда берут верховенство Конституции и в случае толкования нормы закона в соответствии с созданной противоречивой практикой ее применения – верховенство закона.
Например, в Постановлении Пленума Конституционного Суда «О толковании некоторых положений статей 59.1.9 и 60 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики» от 2 апреля 2012 г. отмечено, что «согласно правовой позиции, сформированной Пленумом Конституционного Суда относительно сути и значения принципа правовой определенности, принцип правовой определенности выступает в качестве одной из особенностей верховенства права. Соответствие каждого закона или каждого его положения принципу правовой определенности крайне важно. Для его обеспечения правовые нормы не должны быть неопределенными и двусмысленными. Это, в свою очередь, должно создавать каждому возможность защищать свои права и свободы и предвидеть действия правоприменителя» [19].
В данном решении Конституционный Суд АР, хотя и сослался на верховенство права, но фактически отметил важность правовой определенности в едином понимании применяемой нормы.
Естественно, верховенство права в данном случае выступало в своем традиционном позитивистском правопонимании, так как, исходя из настоящего дела, принцип правовой определенности предусматривал четкое и единообразное понимание нормы кодифицированного нормативно-правового акта.
В другом своем решении Конституционный Суд АР отметил важность верховенства права с позиции доверия к конституционным гарантиям защиты прав и свобод личности. В частности, в Постановлении «О толковании статьи 228.2 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики во взаимосвязи со статьями 53, 149.2.3 и 218 Гражданско-процессуального кодекса Азербайджанской Республики» от 12 июля 2016 г. Пленум Конституционного Суда отметил, «что принцип правовой определенности выступает в качестве одной из основных особенностей верховенства права. Весьма важным представляется соответствие каждого закона или отдельно взятого его положения принципу правовой определенности. Для обеспечения этого правовые нормы должны быть однозначными и ясными, применяться в единой форме в судебной практике. А это, в свою очередь, должно создавать уверенность каждого в том, что его права и свободы будут защищены, а действия правоприменителя прогнозируемы» [20]. В данном случае элементом верховенства права также выступила правовая определенность. Однако в своем решении орган конституционного контроля подчеркнул особенность верховенства права в контексте обеспечения прав и свобод.
Следует подчеркнуть, что именно верховенство права, наряду с демократией и правами человека, называют «одним из трех столпов» Совета Европы. Принцип верховенства права закреплен в Преамбуле Устава Совета Европы (в Преамбуле подчеркивается «привереженность» государств-членов «духовным и моральным ценностям, которые являются общим достоянием их народов и подлинным источником принципов свободы личности, политической свободы и верховенства права, лежащих в основе любой истинной демократии»), а также в ст. 3 («Статья 3. Каждый член Совета Европы должен признавать принцип верховенства права и принцип, в соответствии с которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться правами человека и основными свободами и искренне и активно сотрудничать во имя достижения цели Совета, определенной в главе I») этого документа [21]. При этом, как следует из приведенных фрагментов Устава, сущность и содержание этого принципа в документе 42
не раскрываются, авторы текста ограничиваются лишь упоминанием его наименования.
Аналогичным образом поступили и авторы текста Конвенции 1950 г.: наименование анализируемого принципа содержится лишь в Преамбуле Конвенции (в Преамбуле речь идет о том, что «правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся членами Совета Европы,… преисполненные решимости, как Правительства европейских государств, движимые единым стремлением и имеющие общее наследие политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права, сделать первые шаги на пути обеспечения коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных во Всеобщей декларации,… согласились о нижеследующем…»).
Принцип верховенства права находит свою интерпретацию в соответствии с реалиями современности в решениях Европейского суда по правам человека. Совет Европы постоянно поддерживает актуальную интерпретацию принципа верховенства права с учетом вызовов и угроз, которые возникают в сфере защиты прав человека.
Нередко Европейский суд по правам человека при рассмотрении нарушений положений Конвенции 1950 г., связанных с элементами вышеприведенного списка, упоминает и о принципе верховенства права, как, например, в мотивировочной части Постановления по делу «Брумареску против Румынии».
Дело было инициировано в связи с тем, что заявитель просил о защите принадлежавшего ему (как он утверждал) права собственности. Фабула дела строилась на том, что в 1930 г. родители заявителя владели домом, построенным в г. Бухаресте. С 1939 г. и далее они сдавали внаем первый этаж братьям Миреску, которые приходятся дядями Мирче Дан Миреску, участвующему в деле в качестве третьей стороны. В 1950 г. государство лишило родителей заявителя владения домом в г. Бухаресте предположительно согласно Декрету № 92/1950 о национализации. Родители заявителя никогда не были уведомлены о причинах или юридических основаниях для лишения собственности. Однако им позволили проживать в одной из квартир дома в качестве съемщиков у государства. В 1974 г., в соответствии с Законом № 4/1973, государство продало братьям Миреску квартиру, которую они до этого занимали как съемщики. Третья сторона – Мирче Дан Миреску и его сестра А.М.М. – наследовали квартиру в 1988 г. После смерти сестры в 1997 г. третья сторона осталась единственным законным наследником квартиры. В 1993 г. заявитель, как бенефициарий имущества родителей, подал иск в суд первой инстанции г. Бухареста (далее – суд первой инстанции), требуя объявить национализацию недействительной и не имеющей юридической силы на том основании, что Декрет № 92/1950 закреплял положение, согласно которому собственность работающих по найму, каковыми являлись его родители к моменту национализации дома, не могла быть национализирована. Из документов, представленных Суду, не ясно, проинформировал ли заявитель суд первой инстанции о продаже квартиры государством братьям Миреску в 1973 г. Рассматривая жалобу, Европейский суд по правам человека сформулировал, что «право на справедливое разбирательство дела судом, гарантируемое пунктом 1 Статьи 6 Конвенции, должно толковаться в свете Преамбулы Конвенции, которая провозглашает, среди прочего, верховенство права как часть общего наследия Договаривающихся Государств. Одним из основных аспектов верховенства права является принцип правовой определенности, который требует inter alia, чтобы при окончательном разрешении дела судами их постановления не вызывали сомнения» (§ 64) [22]. Таким образом, Суд раскрыл как один из аспектов принципа верховенства права, так и его тесную связь с принципом правовой определенности.
Одним из недавно рассмотренных Европейским судом по правам человека дел, которое касается проблем применения принципа верховенства права, является дело «Рамос Нуньес де Карвальо э Са против Португалии».
Резюмируя причины, по которым г-жа Паула Кристина Рамос Нуньес де Карвальо э Са обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека на нарушение в отношении нее ч. 1 ст. 6 Конвенции, следует отметить следующее:
– заявительница была привлечена к дисциплинарной ответственности в связи со своей деятельностью на должности судьи суда первой инстанции;
– дисциплинарное производство Высший судебный совет судей (ВСС) Португалии возбудил в связи с тем, что в телефонном разговоре с одним из должностных лиц, ответственных за аттестацию судей, заявительница позволила себе неуважительные высказывания в его адрес; за этим последовало еще два дисциплинарных производства, связанных с подозрением в даче ложных показаний и с другими действиями заявительницы во время первого производства;
– итоги рассмотрения дела о привлечении ее к дисциплинарной ответственности заявительница оспаривала в судебных органах.
В Европейский суд по правам человека заявительницей было подано три жалобы (по одной на каждое из дисциплинарных производств) с просьбой констатировать, что в отношении нее были нарушены положения ч. 1 ст. 6 Конвенции 1950 г. Она утверждала, что в национальных судах не смогла реализовать свое право на справедливый и беспристрастный суд, в частности, ей не всегда своевременно сообщали о предъявляемых ей обвинениях, следствием чего было отсутствие времени на подготовку к защите своих интересов (заявительница, будучи судьей, самостоятельно представляла свои интересы во всех национальных судах и в Европейском суде по правам человека). Суд принял решение рассматривать три жалобы в одном производстве.
В контексте принципа верховенства права представляет интерес не вся аргументация Европейским судом по правам человека своего решения по этому делу, а лишь те ее фрагменты, в которых Суд уточняет содержание этого принципа применительно к рассматриваемому делу. Суд отметил, что, когда власти государства инициируют такое дисциплинарное производство, значение приобретает доверие общества к функционированию и независимости судебной власти. В демократическом государстве такое доверие является гарантией самого существования верховенства права. Более того, Европейский Суд подчеркивал возрастающую важность разделения властей и необходимость обеспечения независимости судебной власти» [23]. Следует отметить, что Суд последовательно отстаивает деполитизацию понятия верховенство права или права и свободы человека и гражданина.
По делу «S., V. и A. (S., V. and A.) против Дании» Суд отметил, что «любая законность содержания под стражей, как в процессуальном, так и в материально-правовом смысле, оценивается в строгом соблюдении принципа верховенства права и важности оперативности или незамедлительности требуемого судебного контроля» [24]. Исходя из этого, Суд полностью отклонил жалобы заявителей, хотя и не полностью согласился с аргументацией государства-ответчика. В частности, «власти Дании утверждали следующее: тот факт, что заявители столкнулись со значительным полицейским присутствием до, во время и после футбольного матча, в достаточной степени предполагал, что они «были осведомлены о конкретных действиях, от совершения которых им следовало воздержаться», а именно о недопустимости подстрекательства к дракам футбольных хулиганов во время и в месте проведения матча.
Европейский Суд был не удовлетворен данной аргументацией. В частности, он счел, что масштабное присутствие полицейских является обычной ситуацией при проведении массовых мероприятий и не может быть приравнено к крайним мерам, перечисленным в Постановлении Европейского Суда по делу «Остендорф против Германии» (§ 95), для того чтобы обеспечить информирование лица о конкретных действиях, от совершения которых оно должно воздерживаться. Подобное широкое толкование подпункта «b» пункта 1 статьи 5 Конвенции повлекло бы за собой последствия, не совместимые с принципом верховенства права, лежащего в основе всей Конвенции» [24].
Итак, разрешая конфликт между правом на свободу и неприкосновенность заявителей и такой ценностью, как общественная безопасность, Европейский Суд по правам человека отдал предпочтение общественной безопасности, что представляется верным с учетом современного состояния развития государства и общества.
Однако гораздо чаще Европейский суд по правам человека, рассматривая нарушения положений Конвенции о правовой определенности, равенстве и недискриминации и др. элементах принципа верховенства права, не упоминает об объединяющем их конституционном принципе в мотивировочной части решений и постановлений по этим делам. При этом принцип верховенства права, пожалуй, наиболее известный из конституционных принципов, поэтому необходимости в указании на то, что какой-либо иной принцип является его составляющей, не возникает.
Список литературы Сущность принципа "верховенство права" и критерии его тестирования в практике высших судов
- Аллалыев Р.М. Историческое развитие понятия «верховенство права» в англосаксонской правовой традиции // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. № 10. С. 104.
- Дайси А.В. Основы государственного права Англии. Введение к изучению английской конституции. М., 1905.
- Грачева С.А. Доктрина верховенства права и судебные правовые позиции // Журнал российского права. 2014. № 4. С. 34–35.
- Danwitz T. von. The Rule of Law in the Recent Jurisprudence of the ECJ // Fordham Int'l L.J. 2014. № 37. P. 1346.
- The Rule of Law Lecture. Law Teacher. November 2013 [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawteacher.net/modules/public-law/the-rule-of-law/lecture.php.
- Скакун О.Ф. Верховенство права как принцип интеграции правовых систем в современном мире // Наук. пр. Одес. нац. юрид. акад. О.: Юрид. лит., 2009. Т. 8. С. 42.
- Илиопол И.М. Место принципа правовой определенности в системе принципов гражданского процессуального права Украины [Электронный ресурс]. URL: https://yaizakon.com.ua/mesto-printsipa-pravovojopredelennosti-v-sisteme-printsipov-grazhdanskogoprotsessualnogo-prava-ukrainy.
- Loughlin M. The Rule of Law in European Jurisprudence. European Comission for Democracy through Law (Venice Comission), 29 May 2009, Study 512/2009 CDL-DEM(2009)006 [Электронный ресурс]. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-DEM(2009)006-e/.
- Чиркин В.Е. Верховенство права: современные варианты терминологии // Журнал российского права. 2015. № 12. С. 7.
- Конституция Азербайджанской Республики [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-qanun.azframework/897.
- Чиркин В.Е. Верховенство права в правовом государстве: терминологические вопросы конституционного права // Право и современные государства. 2016.№ 5. С. 12.
- Резолюция 1594 (2007)1 Парламентской ассамблеи Совета Европы. Принцип Rule of Law [Электронный ресурс]. URL: https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/[Russian_documents]/[2007]/[Bratislava2007]/Res1594_rus.asp/.
- Тлембаева Ж.У. Роль конституционного контроля в обеспечении верховенства права // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 8. С. 45.
- Сабирова Л.Л. Реализация идеи верховенства закона в современной России // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 1. С. 165.
- Грачева С.А. Доктрина верховенства права и судебные правовые позиции // Журнал российского права. 2014. № 4.
- Михайлова А.А., Виссаров А.В. К вопросу о верховенстве Конституции Российской Федерации // Марийский юридический вестник. 2016. № 1. Т. 1. С. 40.
- Страшун Б.А. Конституция России: взгляд из сегодня // Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990–1993 гг.): в 6 т. (10 кн.) / под общ. ред. О.Г. Румянцева. М., 2010. Т. 6. Дополнительные, мемуарные, справочные материалы.
- Нарутто С.В. Верховенство Конституции как основа конституционного правопорядка в России // Российское право: Образование. Практика. Наука. 2018. № 3. С. 32.
- Постановление Пленума Конституционного Суда АР «О толковании некоторых положений статей 59.1.9 и 60 Уголовного кодекса АзербайджанскойРеспублики» от 2 апреля 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.constcourt.gov.az/decision/232.
- Постановление Пленума Конституционного Суда АР «О толковании статьи 228.2 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики во взаимосвязи со статьями 53, 149.2.3 и 218 Гражданско-процессуального кодекса Азербайджанской Республики» от 12 июля 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.constcourt.gov.az/decision/897.
- Устав Совета Европы [Электронный ресурс]. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/Rets1.html.
- Постановление по делу «Брумареску против Румынии» от 28 октября 1999 г. (жалоба № 28342/95) [Электронный ресурс]. URL: https://hudoc.echr.coe.int/.
- Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Рамос Нуньес де Карвальо э Са против Португалии» (жалобы № 55391/13, 57728/13 и 74041/13) от 6 ноября 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: https://hudoc.echr.coe.int.
- Постановление Европейского суда по правам человека по делу «S., V. и A. (S., V. and A.) против Дании» (жалобы № 35553/12, 36678/12 и36711/12) от 22 октября 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: https://hudoc.echr.coe.int/.