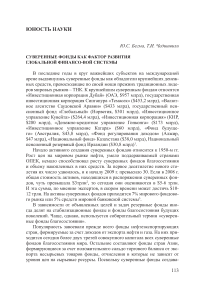Суверенные фонды как фактор развития глобальной финансовой системы
Автор: Бегма Юрий Сергеевич, Чедишвили Татия Иосифовна
Журнал: Экономический журнал @economicarggu
Рубрика: Юность науки
Статья в выпуске: 3 (35), 2014 года.
Бесплатный доступ
Дается описание особенностей инвестиционной политики и инструментов управления суверенных инвестиционных фондов как относительно нового финансового института. Анализируются проблемы и объективные ограничения в использовании ресурсов фондов для решения текущих задач функционирования национальной экономики. Показана роль суверенных фондов в стабилизации мировой валютной системы и их перспективы в формировании международных валютных союзов.
Суверенные фонды, резервные фонды, фонды благополучия, валютная политика, стабилизация валютных курсов, денежные резервы, инвестиционная политика, национальные инвестиционные программы
Короткий адрес: https://sciup.org/14915196
IDR: 14915196
Текст научной статьи Суверенные фонды как фактор развития глобальной финансовой системы
В последние годы в круг важнейших субъектов на международной арене выдвинулись суверенные фонды как обладатели крупнейших денежных средств, превосходящие по своей мощи прежних традиционных лидеров мировых рынков – ТНК. К крупнейшим суверенным фондам относятся «Инвестиционная корпорация Дубай» (ОАЭ, $957 млрд), государственная инвестиционная корпорация Сингапура «Темасек» ($453,2 млрд), «Валютное агентство Саудовской Аравии» ($433 млрд), государственный пенсионный фонд «Глобальный» (Норвегия, $301 млрд), «Инвестиционное управление Кувейта» ($264,4 млрд), «Инвестиционная корпорация» (КНР, $200 млрд), «Денежно-кредитное управление Гонконга» ($173 млрд), «Инвестиционное управление Катара» ($60 млрд), «Фонд будущего» (Австралия, $43,8 млрд), «Фонд регулирования доходов» (Алжир, $47 млрд), «Национальный фонд» Казахстана ($38,0 млрд), Национальный пенсионный резервный фонд Ирландии ($30,8 млрд) 1 .
Начало активного создания суверенных фондов относится к 1950-м гг. Рост цен на мировом рынке нефти, умело поддерживаемый странами ОПЕК, немало способствовал росту суверенных фондов благосостояния и объему накопленных в них средств. За первое десятилетие нового столетия их число удвоилось, и к началу 2009 г. превысило 30. Если в 2008 г. общая стоимость активов, находящихся в распоряжении суверенных фондов, чуть превышала $3трлн 2 , то сегодня они оцениваются в $5-6 трлн. И эта сумма, по мнению экспертов, в скором времени может достичь $1012 трлн. На активы суверенных фондов приходится 7% мирового фондового рынка или 5% средств мировой банковской системы 3 .
В зависимости от объявленных целей и задач резервные фонды иногда делят на стабилизационные фонды и фонды благосостояния будущих поколений. Чаще, однако, используется собирательный термин «суверенные фонды благосостояния».
Популярность завоевали прежде всего фонды нефтеэкспортирующих стран, формируемые за счет доходов от экспорта нефти и газа. На них приходится сегодня более двух третей совокупного капитала всех суверенные фондов благосостояния мира. Остальное составляют фонды стран Азии, формирующиеся за счет положительного сальдо торгового баланса от экспорта несырьевых товаров фонды, отчисления в которые не зависят от уровня цен на сырьевые ресурсы. Поскольку суверенные фонды создава- лись прежде всего нефтеэкспортирующими странами, то в экономической литературе создание суверенных фондов обосновывалось обычно необходимостью защищать национальную экономику от возможного падения экспортного дохода при падении цен на нефть, а размер суверенных фондов тесно увязывался с суммой компенсации потерь от возможного падения цен на нефть.
Однако такая общепризнанная трактовка причин и предпосылок появления суверенных фондов не соответствует реальности. Статистика изменения денежных ресурсов суверенных фондов свидетельствует, что в период сильнейшего мирового финансового кризиса 2007-2008 гг. ресурсы фондов практически не использовались для восстановления экономической ситуации. Задача противодействия кризису решалась без привлечения их ресурсов, необходимость создания которых, собственно, объяснялась задачей решения в первую очередь кризисных проблем. Это несколько нарушает логическую обоснованность декларируемых ссылок на необходимость защиты от неустойчивой конъюнктуры нефтяных рынков.
В этом плане показателен пример использования ресурсов стабилизационного фонда России в условиях финансового кризиса 2009 г. Экономические трудности стран Западной Европы, попавших вслед за США в молох мирового кризиса, создали вполне реальные предпосылки для срочного истребования ими от своих должников, включая многочисленных российских заемщиков, погашения обязательств по выданным кредитам. При сложившейся к началу 2009 г. сумме внешнего долга России свыше $450 млрд возможное требование погашения задолженности породило угрозу дефолта российских банков. Для ее преодоления по настоятельной просьбе банковского сообщества правительство России приняло решение использовать средства суверенного фонда, что соответствует в полной мере задачам этого фонда. Такие средства на льготных условиях были предоставлены российским банкам для погашения их международной задолженности западноевропейским партнерам. Однако, как выяснилось, европейские банки, не были заинтересованы в погашении долгов, так как кризис заметно снизил потребность экономики Западной Европы в инвестициях и кредитах. Валютные средства резервного фонда, полученные российскими банками на льготных условиях, были за ненадобностью проданы ими на валютной бирже уже по рыночной цене, что обеспечило банкам вполне ощутимый доход вместо кризисных убытков. Экономические проблемы внешних платежей были решены без средств резервного фонда, а его реальная роль независимо от замысла свелась к росту доходности отдельных ведущих банков страны.
Ограниченность трактовки фондов, как своего рода «подушки безопасности в случае падения цен на нефть», подтверждается также практикой активного создания суверенных фондов в странах, не только экспортирующих, но и импортирующих нефть. Это страны, которые либо успешно наращивают товарный экспорт (например, Япония, Китай, Южная Корея) либо проводят политику активной экспансии на глобальных финансовых и информационных рынках, включая Сингапур и Гонконг. Положительное сальдо внешнеторгового баланса может формироваться в итоге экспортной экспансии, падения цен на импортные товары, за счет изменения валютного курса, а также вследствие административных ограничений импортных поставок. Средства фондов, возникающих в силу диспропорции внешнеторгового оборота, рассматриваются государством в качестве дополнительного инструмента преодоления экономических проблем. Практически всем странам, сохраняющим диспропорции платежного баланса, неизбежно приходится выбирать цели и задачи валютной политики, прибегая в некоторых случаях к использованию резервных фондов.
Создание подобных фондов поддерживается и международными финансовыми организациями, которые учитывают, что увеличивать государственные расходы в период благоприятной конъюнктуры легко, а сохранить относительно постоянные неснижаемые объемы потребительских расходов для поддержания экономической и политической стабильности – гораздо более трудная задача.
Очевидно, что проблема дисбаланса внешних платежей носит системный характер. Взаимосвязь между устойчивым профицитом платежного баланса и формированием фонда возникает в силу того, что разница между валютными доходами и расходами не поглощается внутренними инвестициями из-за неспособности слабой промышленной инфраструктуры страны абсорбировать избыток денежных средств. Чтобы исключить инфляционные последствия роста денежной массы, избыток валютных средств приходится «стерилизовать», перемещая их за рубеж. Национальные суверенные фонды выступают своеобразным инструментом для устранения возникающих экономических диспропорций.
Дисбаланс, независимо от того, с чем он связан (в том числе из-за изменения цен на экспортируемую нефть), меняет соотношение в платежном балансе национальной и иностранной валют. Избыток экспортных валютных доходов ведет к относительному росту курса национальных денег и, соответственно, к снижению доходности товарного экспорта, что теоретически обеспечивает с течением времени выравнивание внешнеторговых потоков. Одновременно увеличивается отток национальной валюты, который вместе с притоком относительно обесценивающейся валюты из-за рубежа усиливает начальный дисбаланс. Свободное перемещение капитала между странами ставит государство перед классической дилеммой: либо поддерживать стабильный валютный курс, сохраняя внешнеторговые потоки, либо позволить свободное изменение валютного курса, стабилизируя денежную массу в стране и контролируя условия экономического роста.
Чтобы сохранить стабильность валютного курса, государству приходится при профиците внешнеторгового баланса поглощать избыток зарубежной валюты, «стерилизуя» ее в резервных фондах, не допуская ее к свободному обращению на валютном рынке, или выкупать за счет эмитированных национальных денег, увеличивая неизбежно объем денежной массы и инфляцию в стране. При дефиците торгового баланса и угрозы падения курса национальной валюты требуется сократить на рынке объем национальной валюты или предложить дополнительно дефицитную зарубежную валюту из валютных резервов, что в любом случае ведет к сокращению денежной массы в стране, порождая дефляцию и снижение темпов экономического роста.
С другой стороны, чтобы удержать объем денежной массы и, соответственно, уровень инфляции, достаточно обеспечить свободное рыночное регулирование валютного курса. Тогда при профиците внешнеторгового баланса курс национальной валюты будет расти, а при дефиците – падать, меняя условия внешнеторгового оборота, что даст импульс для балансирования внешнеторговых товарных потоков. Вместе с тем изменение внешнеторговых потоков и экспортных доходов потребует корректировки государственного бюджета и, соответственно, объемов финансирования государственных социальных программ.
Таким образом, необходимость в резервных фондах возникает в тех случаях, когда экономика страны не способна адаптироваться к изменениям условий внешней торговли. Фонды помогают нейтрализовать нежелательные последствия избытка иностранной валюты за счет их «стерилизации» в суверенном фонде. В странах с развитой, гибкой экономикой, где валютный курс формируется на основе рыночного механизма спроса и предложения, рост курса национальной валюты (впрочем, как и снижение эффективности экспорта национальной продукции) ведет к быстрому перемещению капитала в другие сферы производства. В этом случае не нужно создавать специальные фонды для компенсации возможных потерь при изменении конъюнктуры мировых рынков тех или иных товаров. Адаптивность национальной экономики и мобильность ресурсов вполне обеспечивают защиту и безопасность национальной экономики.
Специальные «суверенные» фонды нужны странам, экономика которых не способна обеспечить мобильную перестройку своей структуры. Их создание свидетельствует не столько о силе экспортной базы страны и ее возможностях безболезненно отчислять часть экспортных доходов на стабилизацию национальной экономики, сколько о слабости и инерционности экономической структуры страны. Фактически суверенные фонды служат независимо от декларируемых обоснований для реализации решений экономической политики государства, компенсирующих слабость экономической структуры страны.
Однако расходование средств таких фондов внутри страны должно осуществляться крайне осторожно. Это подтверждает мировой опыт использования средств суверенных фондов для увеличения капиталовложений в национальную экономику. Так, в Нигерии политика повышенных расходов бюджета за счет дополнительных доходов от экспорта в период высоких цен на нефть привела к накоплению диспропорций, связанных с неспособностью государства финансировать объем своих возросших в благоприятное время бюджетных обязательств при внезапном и, главное, достаточно длительном спаде внешнеэкономической конъюнктуры. Прямым итогом политики активного использования в 1990-1994 гг. средств внебюджетных фондов, созданных за счет поступлений от продажи нефти, на финансирование инвестиций внутри страны, включая при этом весьма перспективные проекты национального развития, стал глубочайший экономический кризис, в котором страна оказалась в середине 1990-х гг.
Иной пример экономической политики демонстрируют Норвегия и Чили, которые, создав стабилизационные фонды, последовательно ограничивали использование их средств на покрытие текущих расходов бюджета, добиваясь при этом позитивных результатов в экономике. Более продуманное и прагматичное использование суверенных фондов позволило этим государствам понизить уровень инфляции, уменьшить колебания внутреннего спроса и сохранить профицит бюджета. Норвежский и чилийский опыт убеждает, что наличие суверенных фондов благосостояния не должно ломать существовавшую политику рационального ограничения бюджетных расходов несмотря на приток в страну дополнительных денежных средств. Как свидетельствует практика этих стран, достоинства суверенных фондов как инструмента экономической политики государств могут легко трансформироваться в недостатки при их включении в изменение или резкую перестройку внутринациональных макропараметров.
Более того, эффективность суверенных фондов также ощутимо снижается в том случае, когда допускается пересмотр правил их функционирования для адаптации к меняющимся внешним условиям в силу, например, быстрого роста денежных средств. Примером может служить «Фонд общих резервов» Кувейта, регламент использования средств которого не был четко определен при его учреждении. Считалось, что возможность гибкого изменения порядка расходования средств в зависимости от динамики их накопления повысит эффективность функционирования фондов. Однако средства фонда практически сразу стали использовать для финансирования постоянно возникающих многочисленных государственных задач. Неизбежная несбалансированность бюджетной политики легко поглощала дополнительные денежные ресурсы без заметного экономического эффекта. По истечении времени данная политика была расценена экспертами как неэффективное расходование резервного фонда.
По всей видимости, сбалансированность макроэкономической политики, способной сдерживать рост курса национальной валюты и снижение инфляционного давления, может быть обеспечена при размещении активов суверенных фондов преимущественно за границей. Такая политика приоритетного инвестирования средств суверенных фондов в зарубежные активы поддерживается многими крупными фондами. Более того, многие зарубежные эксперты утверждают, что средства фондов целесообразно вкладывать только в иностранные активы. По их мнению, использование средств суверенных фондов во внутринациональных инвестиционных проектах приводит к передаче негативных колебаний мировых цен национальной экономике, в то время как суверенные фонды должны сглаживать такие воздействия. При росте цен на продукцию национального экспорта дополнительные инвестиции фонда внутри страны приведут к немедленному росту внутреннего спроса, не обеспеченному соответствующим ростом предложения, и, как правило, к неизбежному перераспределению средств в спекулятивный сектор национального финансового рынка. За этим следует усиление инфляционного давления на национальную экономику и рост темпов укрепления национальной валюты.
Страны-экспортеры сырьевых ресурсов сегодня реально инвестируют большую часть средств суверенных фондов за границей. Они сократили долю использования на внутренние инвестиции сверхплановых доходов от экспорта в среднем на 30%. Это значительно меньше, чем в 1970-начале 1980-х гг., когда на эти цели они тратили 75% таких доходов. Основная часть избыточных экспортных доходов направляется на погашение внешнего долга стран либо инвестируется за рубежом и сберегается в виде активов суверенных фондов благосостояния. В целях минимизации рисков и повышения инвестиционного дохода суверенные фонды стремятся максимально диверсифицировать объекты своих зарубежных вложений, выбирая инвестиции в активы компаний финансового сектора. В посткризисный 2009 г. и начале 2010 г. объем инвестиций суверенных фондов благосостояния стран Азии и Ближнего Востока в иностранные компании (нередко с приобретением 100% уставного капитала) составил почти $80 млрд. При этом на финансовый сектор (банки, управляющие компании, фондовые биржи) пришлось около $60 млрд, т.е. почти три четверти всех инвестиций.
Инвестиционная деятельность суверенных фондов становится сегодня серьезным экономическим фактором развития стран – владельцев суверенных фондов. Она заметно различается в зависимости от задач, которые ставит перед ними государство, что, собственно, отражается в названиях фондов – резервные или стабилизационные фонды и фонды развития или благосостояния будущих поколений, в характере инвестиционной политики фондов и в практике государственного регулирования их расходов.
Для первой группы фондов она ориентирована в основном на краткосрочную перспективу, а для вторых – на период, измеряемый десятилетиями. Задача стабилизационных фондов – сохранить ресурсы, необходимые для привлечения в момент кризисной ситуации. Они вынуждены вести консервативную инвестиционную политику с использованием низкорисковых, но при этом низкодоходных финансовых активов. Традиционными видами вложений таких средств являются инструменты денежного рынка, высоконадежные банковские депозиты и государственные облигации инвестиционного кредитного рейтинга.
Фонды благосостояния будущих поколений ориентированы на приращение своих средств, сохранение их от обесценения с течением времени. Они ведут, как правило, более агрессивную политику инвестирования, ориентируясь на высокий доход с высоким риском. Потеря ресурсов, конечно, нежелательна, но некритична для национальной экономики, тем более что в дальнейшем может быть компенсирована. Эти фонды используют в качестве объектов инвестирования более широкий спектр финансовых активов. В целях максимизации дохода они размещают значительную часть средств в доходные финансовые активы, включая акции венчурных компаний, взаимных фондов, корпоративные облигации. Особым вниманием пользуются хедж-фонды. С начала 2007 г. в акции хедж-фондов направлялось только 2% ресурсов суверенных фондов. Сегодня около 40% суверенных фондов развития имеют вложения в хедж-фонды, почти половина из них имеют 5-летний опыт таких инвестиций 4 .
География инвестирования фондов ориентирована главным образом на развитые страны мира. Страны ОЭСР поглощают 61% всех инвестиций суверенных фондов, другие страны (без БРИКС) – 25%, страны-участницы БРИКС – 14% 5 . Так, в структуре инвестиций сингапурского фонда GIC половина приходится на финансовые активы компаний США, 30% – Западной Европы, 10% – Японии и только 10% – на другие страны. Вместе с тем руководство GIC заявило о намерении более активно инвестировать в развивающиеся рынки, в т.ч. в хедж-фонды и товары 6 .
Государство имеет возможность регулировать внешние инвестиции в целях нейтрализации негативных явлений в экономике или для стабилизации валютного курса в условиях значительных притоков иностранного капитала. Иногда это осуществляется путем косвенного вмешательства в рамках валютной политики, как, например, в России, Китае или Саудовской Аравии, Сингапуре. В развивающихся странах правительства, как правило, подходят к управлению международными инвестициями более активно, непосредственно участвуя в этом (по сравнению с индустриальными странами). Так, в Индии, Китае, Таиланде, Индонезии, Корее и Малайзии правительство напрямую контролирует примерно 60% зарубежных инвестиций. Аналогичный показатель для США – 2,5% 7 .
За счет значительных средств суверенных фондов фактически финансируются дефициты бюджетов и восполняется недостаток инвестиционных ресурсов в развитых странах, в первую очередь в США. Так, в кризисный 2008 г. почти 40% средств, потраченных иностранцами на покупку американских ценных бумаг, поступило из развивающихся стран.
Вместе с тем воздействие мирового финансового кризиса на национальные экономики потребовало от государств значительных финансовых ресурсов, чтобы поддержать внутренний спрос, снизить падение производства, повысить ликвидность финансовой системы. Это привело к некоторому изменению географии инвестиционных потоков суверенных фондов: они стали больше ориентироваться на внутренние рынки.
Влияние инвестиционных решений крупных суверенных фондов на глобальную финансовую стабильность не вызывает сомнений, но роль их оценивается чаще всего негативно. Считается, что суверенные фонды, скупая зарубежные активы, формируют международную задолженность и порождают тем самым потенциальные риски для глобальной финансовой стабильности.
Бесспорно, деятельность суверенных фондов связана с перераспределением значительных денежных средств и финансовых активов. Однако перераспределение избытка денежных ресурсов между странами служит скорее стабилизирующим фактором. Финансовые кризисы начинаются обычно с нехватки в какой-то момент ликвидности (денежных средств) в каком-то конкретном месте (банках, стране). Эта проблема снимается перемещением недостающих денежных средств, объективно снижает угрозу кризиса. Тем более что суверенные фонды перемещают избыточные денежные средства, не востребованные в данный момент времени национальной экономикой, ослабляя тем самым негативные эффекты диспропорциональности денежной массы.
Конечно, инвестиции суверенных фондов, особенно в финансовые активы, выглядят аналогично спекулятивным операциям портфельных инвесторов, которые дестабилизируют мировую финансовую систему. Тем более что суммы инвестиций суверенных фондов намного превосходят объемы стандартных спекуляций частных инвесторов. И все же нельзя забывать, что в отличие от портфельных спекуляций, инвестиции фондов носят относительно долгосрочный характер и фонды заинтересованы не в доходности приобретаемых бумаг, а в их надежности: зарубежные инвестиции фондов обусловлены не погоней за прибылью, а стремлением преодолеть трудности собственной экономики.
Деятельность суверенных фондов как инвесторов все же отличаются от действий других инвесторов частного бизнеса – банков, пенсионных и паевых фондов, поскольку, выступая в форме частных коммерческих структур, являются по сути государственным институтом. Коммерческая гибкость структур частного бизнеса успешно сочетается с мощью государ- ственной собственности, а решение стратегических задач государственной валютной политики ̶ с возможностью получения прибыли. Резервные фонды удачно решают текущие задачи валютной политики. Но попытки использовать быстрорастущие (в силу внешнеэкономической экспансии государств) денежные ресурсы фондов благосостояния оказываются невысокоэффективными вопреки надеждам создателей фондов в рамках их традиционной экономической политики.
Инвестиции суверенных фондов в национальную экономику не дают ожидаемого гармоничного развития экономики, поскольку чаще всего в логике борьбы за повышение доходов направляются прежде всего на дальнейшее развитие рентабельных экспортных предприятий, что фактически закрепляет структуру экономики, которая, собственно, и порождает внешнеторговые диспропорции. Крупномасштабные государственные программы ускоренного развития депрессивных производств или создания новых предприятий обрабатывающих отраслей, как правило, не устраняют трудностей экономического развития страны. Такие проекты разрабатываются в соответствии с действующей парадигмой индустриального развития страны. Способность экономики развитых стран быстро адаптироваться к меняющимся условиям внешних рынков определяется не только созданием успешных предприятий, но прежде всего функционированием сопутствующих производств и развитой инфраструктурой, которые никогда не удается сформировать в рамках отдельных крупных проектов. Это обеспечивается долговременной текущей деятельностью частного (малого и среднего) бизнеса. Крупномасштабные инвестиции в долгосрочные проекты (инфраструктурные объекты или политически мотивированные «национальные» программы) ведут к росту инфляции.
Эффективное использование средств суверенных фондов предполагает преодоление своеобразного парадокса: необходимо изменить структуру национальной экономики, которая, собственно, порождает диспропорции внешних платежей, обеспечивающих поступление средств суверенных фондов, т.е. ликвидировать источник существования таких фондов. Фонды отражают недостаточную способность экономики адаптироваться к несбалансированности внешнеторговых потоков в силу низкой мобильности инвестиционных средств. Государственные программы использования средств резервных фондов, ориентированные в основном на развитие отраслей обрабатывающей промышленности с относительно высокой добавленной стоимостью, не учитывают реальные сдвиги в постиндустриальной экономике. Сегодня в экономике развитых стран доминирует нематериальное производство со своими закономерностями движения капитала. Мобильная адаптация постиндустриальной экономики страны к меняющимся требованиям внешних рынков предполагает формирование технической инфраструктуры, отличной от инфраструктуры индустриальной экономики.
Гибкость постиндустриальной (виртуальной) экономики обеспечивается созданием прежде всего телекоммуникационных систем, баз данных, средств информационного общения, возможностей поэтапного финансирования рисковых новаторских проектов вместо крупномасштабных инвестиций на базе тщательно разработанных бизнес-планов. Принципы использования средств резервных суверенных фондов в интересах перспективного развития экономики страны нуждаются сегодня в критическом переосмыслении, отказе от моделей индустриальной экономики.
Таким образом, суверенные фонды твердо укрепились сегодня среди влиятельных игроков на международном рынке капиталов. Их функционирование подчинено в целом стратегическим задачам государств, а характер инвестиционной деятельности определяется реальными запросами национальных экономик и состоянием мировых финансовых рынков. Вместе с тем эти фонды могут стать реальной основой для формирования международных расчетных и резервных валют будущих региональных валютных союзов. Реально выполняемая ими функция стабилизации мировой валютной системы явно выходит за рамки объявляемых при их создании задач стабилизации национальных экономик. Будущее и пространство экономической деятельности фондов не вызывает сомнений, хотя их границы, может быть, и не совсем совпадают с замыслами творцов.
Список литературы Суверенные фонды как фактор развития глобальной финансовой системы
- Sovereign Wealth Fund Institute. URL: http://www.swfinstitute.org/.
- URL: http://www.ifsl.org.uk/output/ReportItem.aspx?NewsID=20
- Кудряшов В.В. Инвестиционная политика мировых суверенных фондов в финансово-правовом контексте. URL: http://www.izbrannoe.info/20095.html.
- Darasha Yazad. Emirates Business. 24 (7). April. 2009.
- Assessment and outlook for sovereign wealth funds. Focus. № 1-28. November, 2008.
- China's New Sovereign Wealth Fund: Implications for Global Asset Markets. Henderson Global Investors, Henderson Insights. July, 2007.
- Edwin M. Truman. Sovereign Wealth Funds: The Need for Greater Transparency and Accountability, Peterson Institute for International Economics. Policy Brief, August 2007. URL: http://www.iie.com/publications/pb/pb07-6.pdf.