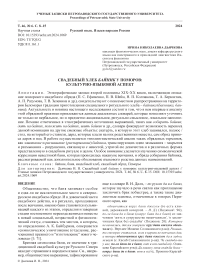Свадебный хлеб байник у поморов: культурно-языковой аспект
Автор: Дьячкова И.Н.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 6 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Этнографические записи второй половины XIX-XX веков, включающие описание поморского свадебного обряда (П. С. Ефименко, П. В. Шейн, Н. П. Колпакова, Т. А. Бернштам, А. П. Разумова, Т. В. Зеленина и др.), свидетельствуют о повсеместном распространении на территории Беломорья традиции приготовления специального ритуального хлеба - байника (баенника, банника). Актуальность и новизна настоящего исследования состоят в том, что в нем впервые к анализу этой обрядовой практики привлекаются данные диалектных словарей, которые позволяют уточнить не только ее вербальное, но и предметно-акциональное, ритуально-смысловое, локальное наполнение. Помимо отмеченных в этнографических источниках выражений, таких как собирать байник, дать на байник, положить на байник, шить байник и др., словари фиксируют возможность переноса данной номинации на другие смежные объекты: скатерть, в которую этот хлеб зашивался, поднос / стол, на который его ставили, дары, которые клали на них родственники невесты, сам обряд приноса даров и под. В работе осуществляется этнолингвистический анализ таких обрядовых терминов, как зашивание и расшивание (распарывание) байника, транслирующих идею замыкания - закрытия и размыкания - разрушения, связанную с невестой, утратой ею девичества и в различных формах представленную в свадебном ритуале в целом. Особое внимание уделяется изучению символической корреляции невестиной бани, которая проводилась накануне венчания, и обряда собирания байника, рассматриваемой как дополнительное обоснование языкового родства данных наименований.
Байник, баня, свадебный хлеб, свадебный обряд, поморье
Короткий адрес: https://sciup.org/147244424
IDR: 147244424 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1069
Текст научной статьи Свадебный хлеб байник у поморов: культурно-языковой аспект
Общеизвестно, что баня занимает особое и едва ли не исключительное место в севернорусском свадебном обряде. И в довенечной части свадебного действа, и в ритуалах, проходивших после венчания, именно баня становится кульминацией каждого из этапов, определяя и завершая стадии постепенного перехода жениха и невесты в новый социальный, возрастной и физиологический статус, становясь тем местом, в котором, по определению А. К. Байбурина, совершается «символическое уничтожение (отделение, расчленение) прежнего и “изготовление” нового человека» [1: 71].
Брачная символика бани, ее значение в традиционной свадебной культуре Русского Севера находит отражение в народном языке. См., например, общеизвестное выражение, зафиксированное
еще в словаре В. И. Даля, – по рукам да и в баню, которое звучало в речи сватов как приглашение заключить брак побыстрее, а также такие диалектные идиомы, отмеченные в говорах Пермского края, как обвенчаться вкруг бани о́ жегом (то есть клюкой, деревянной кочергой. – И. Д.) (Подюков1: 96); по-за бани да в баню (вокруг бани да в баню) со значением ‘жить в супружестве невенчанным’, ‘о заключивших брак без свадьбы’ (Подюков: 20): Которые не венчались, дак им говорили: круг бани ожегом обвенчали (с. Верхнее Мошево Соликамского р-на); Раньше-то спозорно считалося, если в церкви не венчались дак, а тепере обвенчаются круг бани ожегом да и ладно, живут (с. Касиб Соликамского р-на); Че свадьба-то у нас, по-за бани да в баню, вот и вся свадьба (с. Одинцово Карагайского р-на); Да какая у меня свадьба была – вокруг бани да в баню, вот и всё (с. Прокино Карагай-ского р-на).
В свадебной терминологии, бытовавшей в верховьях Северной Двины, существовало такое выражение, как сидеть в бане, обозначающее время, которое невеста «в полной скруте», то есть свадебном наряде, проводила вместе с женихом накануне венца (в записях Д. М. Балашова): «В Маркуше (деревня в Тарногском р-не Вологодской обл. - И. Д. ) невесту из городков уводил не жених, а батько. Невеста сидела во всей скруте и го-ловодце с женихом, и называлось это сидеть в бане » [2: 376]. Термин баня, как видим, в данном случае использовался символически – для обозначения обрядовых действий, по сути, имитирующих интимное общение будущих супругов.
Последний день свадьбы в восточной части Поморья (Пинежский, Мезенский, Лешукон-ский р-ны Архангельской обл.) назывался байной или байничный стол / обед , так как он устраивался после бани для молодых: Баенный обед / баенный стол ‘oбед после свадебного обряда – мытья молодых в бане’ Мезен. Αрх., 1949 (СРНГ2, 2: 43), Пинеж., Примор. (АОС3, 1: 89); Баенно иначе баенной стол , будут блины воровать . Мез. (АОС, 1: 89).
К свадебной бане отсылает и выражение вшивая коса , отмеченное в «Словаре русских говоров Карелии и сопредельных областей» в медвежьегорских и каргопольских говорах, в качестве наименования старой девы (мотивировка прозрачна: называет женщину, так и не побывавшую в обрядовой бане): Вшивая коса ‘та, которая не вышла замуж’. А то как дёвке двадцать лет, так говорят, вшивая коса . Медв. Девушка останется, так вшивой косой кличут . Карг. Господь не допускает этой девки под венец: «Вон вшивая коса идет». Медв. (СРГК4, 2: 437).
Все эти выражения подчеркивают, что именно баня (а не храм) была на Русском Севере тем центром, где по традиционным, языческим представлениям наших предков осуществлялся брак. Венчание в церкви в этом процессе было вторичным (известно, что оно могло происходить и после свадьбы, иногда супруги венчались одновременно с крещением своего первенца). Таким образом, освящение брака в церкви хотя и стало частью свадебного ритуала, однако традиционную роль бани не отменило – она по-прежнему (в противовес официальной и не всегда обязательной процедуре заключения брака) сохраняла за собой функции места, пребывание в котором было непременным условием для перехода молодых – и особенно молодой – в новый жизненный статус.
Свадебный хлеб байник / баенник / банник, известный у поморов, о котором далее пойдет речь, также относится к числу обрядовых терминов, фиксирующих тесную связь бани и севернорусского брачного ритуала.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве материала для исследования использовались этнографические записи второй половины XIX–XX веков П. С. Ефименко5, П. В. Шейна6, Н. П. Колпаковой [8], Т. А. Берн-штам [3], А. П. Разумовой [11] и др., в которых отмечена изучаемая реалия, а также словари, фиксирующие соответствующую лексему в вариантах байник / банник / баенник / баян-ник : «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля7, «Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении» А. И. Подвысоцкого8, «Словарь живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении» И. М. Дурова9, «Словарь русских народных говоров», «Архангельский областной словарь», «Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей», и др. (подробнее см. Примечания).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Т. Е. Гревцова, исследовавшая традиции наименования свадебного хлеба у восточных славян, относит байник к группе названий специальной выпечки типа рукобитник, встречник, разгонщик, ставальный пирог и под. [4: 386-387], которую использовали на различных этапах свадьбы у восточных славян, о чем говорят сами названия, приведенные выше.
Материалы словарей, этнографических записей и исследований, к которым мы обращались в процессе работы, свидетельствуют о том, что в некоторых локальных вариантах этот хлеб также мог называться мякушей или мякушкой (СРНГ, 19: 81; Подвысоцкий: 3), благословенной ковригой (зап. Н. П. Колпакова [8: 159]), столови-ком (Ефименко: 77). Однако наибольшее распространение в Поморье все-таки получило именно наименование байник / банник / баенник.
Что представлял из себя байник?
В словаре А. И. Подвысоцкого его приготовление, или в народной терминологии собирание , а также дальнейшее использование в свадебном ритуале описывается следующим образом:
«Баенник - приготовляемый к свадьбе чистый ржаной, без примеси ячменной муки, хлеб, зашиваемый накануне девичника в скатерть вместе с двумя пшеничными калачами, столовой чашей, миской, солонкой с солью и двумя новыми, не бывшими в употреблении ложками; все эти предметы зашиваются в бане в то время, когда невеста, выпарившись со своими подругами, отдыхает, а расшиваются на утро после венчания, после того как молодые побывают в бане» (Подвысоцкий: 3).
А вот комментарий по этому поводу из словаря В. И. Даля:
«Банник - хлеб, которым мать невесты благословляет к венцу молодых: хлеб, соль, жареная птица и два полные столовые прибора; все это зашивается в скатерть и сдается свахе, а она расшивает банник на другой день, по выходе молодых из бани, которые и едят его одни сам-друг» (Даль).
Сопоставление этих данных с другими проанализированными источниками отражает множество локальных вариантов, которые встречались у поморов даже в пределах соседних поселений. Так, И. М. Дуров указывает с пометой «повсеместно», что в Карельском Поморье в изначально цельном байнике (ржаном каравае) специально делали круглое отверстие глубиной 5-7 см, в которое помещали зерна ячменя, разрезанную пополам «чесноковицу» и небольшое количество ртути,
«имеющих следующее значение: жито и чеснок -как средство, предохраняющее новобрачных от чирьев, дремоты и всяких домашних неурядиц в семейной жизни, а ртуть - как средство, предохраняющее от порчи колдуна» (Дуров: 20).
На некоторых поморских территориях в байник помимо столового прибора (реже двух) и соли могли также зашивать прядь волос (Пи-неж., Примор.; АОС, 1: 89); серебряные монеты, луковицу (Т. А. Бернштам [3: 126], Колежма, Нюхча, РК в записях А. П. Разумовой [11: 32]); зеркало, «мяса чяшку» (Холмог., Примор.; АОС, 1: 107); икону (Мез.; АОС, 1: 136); жареную птицу (Даль) и др.
Для жениха и невесты либо изготавливались отдельные байники (Кем. р-н, РК (СРНГ, 2: 43); Колежма, Нюхча, РК [11: 35], Кандалакшский берег [3: 126]), либо в общий байник, который собирали в доме невесты, помещали два хлеба сразу, например в Холмогорах ржаной и пшеничный (АОС, 1: 107), каравай и подовый хлебец-шаньгу (Нюхча, РК [11: 33]) или даже одну-две буханки хлеба в поздних записях (Онеж.; АОС, 1: 89), причем, если хлеба было два, байник складывался путем наложения одного хлеба на другой. См. в СРГК: Подова буханка хлеба, а наверху шаньга высока, туда соли кладут, крестна зашьет эту буханку в утиральник - это байник, ее несут ребитни на головы. Белом. (СРГК, 1: 31).
Обряд зашивания байника тоже проходил по-разному: в большинстве источников встречается указание на то, что обрядовый хлеб при этом помещался в белую скатерть или салфетку, а иногда и просто в чистое полотно или, как в приведенном примере, утиральник, однако, по данным Т. А. Бернштам, это мог быть и материал бело-красного цвета [3: 126]. В книге «Русская свадьба Карельского Поморья» говорится, что полотно для байника в Колежме и Нюхче сшивали из материи двух цветов - бело-красного или сине-красного [11: 32].
В некоторых этнографических записях, в частности относящихся к Пинежью, подробно описывается сам процесс зашивания. Так, для скрепления байника всегда использовали только одну нитку, на которой не завязывали узлов, и конец этой нитки прятался так, чтобы невозможно было его найти. См. комментарий П. В. Шейна: «Для зашивания его берутъ одну большую нитку, такъ чтобы хватило зашить весь банникъ, а другой нитки никогда не вдергивают. Если же не хва-титъ одной, то остальное скалываютъ булавками» (Шейн: 395). При торжественном расшивании байника, если это предполагал обряд, дружка, тысяцкий, сваха (на разных территориях Поморья) должны были отыскать этот конец и, не оборвав нитки, осторожно распороть ткань (само действо повсеместно так и называлось у поморов - пороть байник ). Так, «на Онежском берегу распарывание носило игровой характер : тысяцкий должен был найти конец нитки, который был искусно спрятан крестной при зашивании байника, и в случае неудачи платил ей деньгами или вином» [3: 131]. Завязывание бай-ника узлом крест-накрест, по мнению Т. А. Берн-штам, - черта более позднего времени, характеризующая стадию разрушения обряда, когда, по словам информантов, уже забыли, как его шить [3: 126]. Повсеместно «распарывание бай-ника население считало концом свадьбы» [3: 131]. См. то же в словарных иллюстрациях: Байенной стол, байенник принесут, узел, байенник распорют, там кулебяки, ковриги, байенным столом фсё кончайецца (Мез.; АОС, 1: 90).
Несколько слов необходимо сказать и о процессуальной части, характеризующей действия с байником в свадебном обряде. Байник изготовлялся скрытно (об этом свидетельствуют и данные словарей, и этнографические записи) и практически всегда без участия невесты (если же невеста присутствовала, она могла сделать три стежка или просто причитывала над ним, находясь рядом) [3: 131] (см. также: Шейн: 395). Обрядовый хлеб собирала и зашивала крестная (божатка) и/или родная мать невесты (там же). Женщины, готовившие байник, обязательно должны были быть замужними -не вдовы, не сироты, таким образом молодую оберегали от вдовства. Если для жениха готовился собственный байник, то это тоже делала его крестная или родная мать [7: 167]. Байник в се- лах Беломорского района могла дополнять так называемая ужинка – еда, приготовленная специально для молодых; ужинка также завязывалась в полотно вместе со столовыми приборами, в таком случае в байник зашивались только хлеб и соль [7: 167], [11: 44].
После невестиной бани практически повсеместно существовала традиция прихода родственников невесты с дарами, получившая названия дарить или давать на байник :
«Даже в тех селениях, где не делали байника, называли этим словом дары от невестиной родни (Тами-ца – Онежский берег, Сухой Наволок – Поморский берег). Все дары бросали на байник так, что закрывали его горой , на Зимнем берегу сверх даров клали постель, а наверх – икону; невеста благодарила каждого за “при-носы великие” (вар.: спасалась на дарах, давала доброе, кликала байник, стиховодничала )» [3: 126].
Если это происходило на свадебном застолье в доме жениха, то принос на байник делали все гости: На байенном столе дарят подарки (Мез., Холмог., Лешук.; АОС, 1: 90).
Перед венцом байником благословляли молодых, перекрещивая их головы либо трижды обводя хлебом вокруг них (см., например, в с. Сура Пинеж. уезда) (Ефименко: 82). Далее байник обязательно везли в церковь: это могли быть сваха, мальчики-подростки (Белом., Кем. р-ны РК [11: 32]), шаферы, причем, кто бы ни вез его, он либо возглавлял свадебную процессию, либо помещался рядом с женихом и невестой [7: 171]. Во время венчанья байник ставили у клироса (Подвысоц-кий: 3), а после церкви привозили в дом жениха и не трогали до первой брачной ночи, а иногда и до ритуальной бани, которая топилась на второй или третий день после венчания (Ефименко: 80). Иногда ритуальный хлеб выкупался у свахи или матери невесты. Байник расшивался молодыми самостоятельно и съедался только ими, либо это делали дружка, тысяцкий, божатка, крестный отец, свекровь, молодая – в зависимости от локальных традиций – и делили его между гостями. На отдельных территориях байником после распарывания кормили скот [3: 127].
Сложносоставность байника и большое число обрядовых действий, связанных с ним в поморской свадьбе, становится основой для переноса этого названия на целый ряд смежных с ним реалий:
-
1) скатерть, в которую зашивают байник (При-мор., Пинеж., Онеж., Мез.; АОС, 1: 89–90, 95);
-
2) поднос, блюдо или стол, на которые помещали этот хлеб ( Вяно подносят на байнике. Онеж. (СРГК, 1: 32); байник как свадебный стол упоминается в записи обряда в с. Малошуйка Арханг. обл. музыковедом Е. Б. Резниченко [10: 7]);
-
3) мелкие вещи, подарки, которые приносили родственники (Онеж., Мез.; АОС, 1: 95, а также говоры Поморья без указания локализации в словаре А. И. Подвысоцкого (Подвысоцкий: 3));
-
4) часть приданого невесты, собранная во время приноса этих даров (У кого родни много, так ящик байника надавают. Онеж.; АОС, 1: 95), а также мелкие женские вещи – гребенки, мыло, посуда и т. п. как часть приданого. Молодые выходят из-за стола, и начинается собирание банника. Арх., 1913 (СРНГ, 2: 95).
В Беломорье (с. Сумский Посад [3: 187]) мальчики-подростки, несшие в церковь караваи-«баенники», тоже назывались баенниками . Наконец, в некоторых селах Онежского района Архангельской области байником именовали сам обряд одаривания невесты перед венчанием.
На байник тоже носили, невеста обнимат, кто принесет, на байник все несут, нитки, чулки, посторонних много. Онеж. Подарки носят; когда стиховодни-чает, тогда байник. Онеж. На байник тоже носили подарки, называется байник, до венца. Онеж. Ее родня несет подарки, она им спасибо дает, это и есть байник. Онеж. (СРГК, 1: 31).
В статусе устойчивых в свадебной терминологии Поморья повсеместно закрепились такие выражения, как собирать байник , давать на байник , садиться за байник , зашивать, расшивать / пороть байник .
Несмотря на то что обряды собирания бай-ника в Поморье неоднократно попадали в поле зрения исследователей и собирателей фольклора, ритуальное значение указанных формул и обрядовых действий, вызвавших их закрепление на вербальном уровне, по нашим данным, ранее не рассматривалось. Попробуем частично заполнить этот пробел.
Так, несомненно, что термины зашивание и расшивание, называющие соответствующие им обрядовые действия, транслируют идею замыкания – закрытия и размыкания – разрушения, которая связана прежде всего с невестой, утратой ею девичества и в различных формах реализуется в свадебном ритуале в целом. Представление о женщине, вступившей в брак, как о распоротой находит прямое подтверждение в севернорусском свадебном фольклоре. Так, в шутливых приговорах дружки, записанных Д. К. Зелениным в конце XIX – начале XX века в Вятской губернии, звучит cледующее обращение к женщинам, недавно вышедшим замуж: «Молодыё молодушки – / Шиты-браныё воротки́ , / поротые передки́…» [6: 40]. Несколько иначе то же значение передается, о чем мы уже упоминали, приводя в пример описание обряда в словаре И. М. Дурова, посред- ством вырезания в центре изначально цельного каравая углубления (Дуров: 20), а также помещения каравая жениха на каравай невесты в некоторых локальных вариантах. В 2019 году в Ко-лежме нам рассказывали об обычае на второй день свадьбы есть блины, когда присутствующие выкусывали в блине середину, а затем разворачивали и, смеясь, приговаривали: А блин-то с дыркой!, намекая на потерю невестой невинности.
Сходной символикой обладает в рассматриваемом обряде и использование скатерти или вообще полотна, а если быть точнее - его сворачивание и разворачивание. Обратим внимание, что во всех случаях это также связано с фигурой невесты и передает идею овладения ей, подчинения ее воле мужа, социального и физического перерождения. Обряд изготовления байника любопытно рассмотреть на фоне других ритуальных действий со скатертью и - шире - полотном, известных в свадебной традиции на Русском Севере. Так, в Поморье повсеместно был распространен обычай перед отъездом к венцу, когда невеста за угол тащила со стола скатерть, если желала подругам быстрее выйти замуж, таким образом символически открывая им дорогу; если же хотела, чтобы они еще посидели в девках, то закидывала угол скатерти на стол (см., например: [11: 49]).
Тот же ритуал существовал и на Вологодчине, но мотивы действий невесты интерпретировались иначе: считалось, что невеста, поступая таким образом, не желает счастья подругам:
«А иная, вредная, наоборот, загнет кончик скатерти да и прихлопнет: “Сидите, бляхи, после меня! Я-то пошла!” (Илеза, д. Мичуровская; тот же обычай записан в Айге.) Назло сделает, чтобы подольше не выйти было остальным» [2: 255].
В записях Д. М. Балашова находим также обряд ворожбы над венчальной скатертью, которой обтирали невесту в бане, при этом у скатерти поочередно отрезались углы [2: 132]. Затем эта скатерть отжималась, и выжатую из нее воду добавляли в пиво, которое подносили жениху.
В Онежском уезде перед отъездом к венцу мать невесты передавала жениху ее свернутый особым образом платок:
«Мать невЪсты подноситъ жениху платокъ, сложенный вчетверо углами вмЪстк Женихъ отогнетъ первый уголъ платка - мать поклонится, второй, третій и четвертый - тоже, послЪ того, принявъ развернутый платокъ, отдариваетъ ее деньгами» (Ефименко: 100).
Очевидно, что закрытый платок, аналогично свернутой скатерти, символизировал в данном случае невинность невесты, которую мать торжественно передавала ее будущему мужу, а тот ее за это одаривал. Кстати, сходные по своему значению действия в севернорусском свадебном обряде также включал ритуал угощения блинами, которые пекла теща на второй день после венчания.
«На блинном столе обнародовалась честность молодой: если до замужества она была “честной” девушкой, молодой дарил теще золотой (десять рублей), в против -ном случае муж брал блин, складывал его вчетверо, откусывал середину, а оставшееся клал на стопку блинов в развернутом виде и блинов не ел» [11: 45].
Интересно, что байник в некоторых записях свадебной причети, исполнявшейся во время его собирания, тоже представлялся четырехугольным:
«Ужъ ты вышей, моя крестовая,
На всіхъ углахъ на четырехъ:
На первомъ углу вышей
Красно солнце съ моревами, На второмъ углу вышей -Светлый місяцъ со звездами, А на третьемъ углу вышей -Сине море со волнами, На четвертомъ углу вышей -Чисто поле со зверями, А на середкі вышей Божью церковь Со крестами, со чудными образами» (Шейн: 395).
Резюмируя сказанное, отметим, что ритуальная символика байника далеко не исчерпывается приведенными наблюдениями: в частности, специального изучения требует явная корреляция процесса его собирания с ритуалами, принятыми в похоронной обрядности (отправление в последний путь и соответствующие ему атрибуты - еда, деньги, скатерть / полотенце, закрывание лица невесты шалью, запрет на смотрение в зеркало и др.). Особенно это заметно на фоне других, сходных по смыслу мотивов, которыми пронизана поморская свадьба, например обычая мыть полы после того, как невеста уезжает из дома [11: 41] - так обычно делают за мертвым, или отмеченного в Колежме обряда, который назывался затаптывать следы , когда вечером после свадебного пира подруги невесты и гости ехали в ее родной дом, который с этого момента именовался пепелище [11: 41, 43] (см. также: СРНГ, 25: 349), и там угощались и веселились до утра, при этом молодые в этом гулянье не участвовали.
Большой интерес представляет также такой элемент традиционной поморской свадьбы, как ношение обрядового хлеба на голове, в котором, по всей видимости, сохранился отголосок языческого ритуала венчания хлебом, более известный и распространенный в практике благословения молодых, когда родители трижды обводили над их головами не только иконой, но и свадебным караваем. На Русском Севере ношение / держание хлеба и ритуальной пищи на голове встречается и за пределами Поморья. См. неоднократно в записях Д. М. Балашова на Вологодчине, где обряд встречи молодых родителями жениха после венчания выглядел следующим образом: «Молодым по караваю дадут на мосту (в сенях, коридоре. - И. Д). Те положат на голову и так держат, и придут в избу, и на по-лицу положат» [2: 209, 293, 336 и др.].
Наконец, необходимо заметить, что кажущееся очевидным родство слов байник и байна (баня ), о котором говорилось в начале нашей работы, продолжает оставаться предметом научной дискуссии. Так, некоторые исследователи считают, что название байник (банник) может быть связано совсем не с баней, а с глаголом сгибать ( гбати ), произошло от не сохранившегося в языке существительного *гбанник (?) (ср. нар. сгибень -выпечное изделие изогнутой формы) и лишь позднее подверглось переосмыслению в свадебном обряде поморов благодаря связи с банными ритуалами (РЭС10: 180). Подкрепляется эта версия такими названиями славянской выпечки, как болг. баница ‘вид пирога’, укр. диал. баник ‘сырник’, связь которых с глаголом сгибать в науке не оспаривается.
Вместе с тем есть немало оснований, чтобы считать представленную гипотезу сомнительной. Как отмечает автор «Русского этимологического словаря» А. Е. Аникин, слово банник в севернорусской обрядности функционирует не только как название свадебного хлеба, но и как, например, ‘угощение, с которым приходят в гости к роженице’ Волог. (роды обычно проходили в бане, там же с младенца и матери смывали родильную «нечистоту», таким образом, привязка к выпечке, «сгибанию» узла в данном случае точно отсутствовала). Кроме того, слова с корнем *гбан - не представлены в русских диалектных и исторических словарях, этнографических материалах, и это ставит под сомнение, что наименование * гбанник вообще существовало на русской территории. Исходя из этих данных А. Е. Аникин делает вывод, что «здесь лучше видеть произв. от банный, баня , а не народноэтимологическое сближение» (РЭС: 80).
Выскажем и некоторые собственные соображения в защиту указанной версии. Так, обращает на себя внимание, что в разновременных этнографических записях, в том числе и наиболее ранних, материалах словарей с названием банник активно конкурируют на всей территории Поморья варианты байник, баенник. При этом в не- которых локальных традициях вариант банник вообще не использовался, а значит, и существование названия *гбанник как более раннего в таких случаях маловероятно. То же заключение можно сделать и на основе анализа свадебной поморской причети, передававшейся из поколения в поколение, где в зависимости от места фиксации употреблялся только один из вариантов.
Необходимо обратить внимание и на то, что родство наименований баня и банник , помимо прочего, подтверждается глубинным взаимодействием тех значений и обрядовых представлений, которые выражались их посредством, о чем мы уже упоминали. Особенно в этом отношении интересны ранние этнографические записи (например, данные словаря А. И. Подвысоцкого), в которых говорится о том, что байник готовился родными невесты непосредственно в бане, пока она мылась. В процессе ритуального мытья девушка, как известно, окончательно прощалась с девичеством, смывала свою «волю», готовясь к переходу в «иной» мир – другую семью и, по всей вероятности, до венца эта воля, уже отделенная от невесты, зашивалась именно в байник, который в дальнейшем передавался в дом мужа и уже там открывался, подобно тому как «открывалась» в замужнем статусе сама невеста. В подтверждение этой гипотезы приведем уже сюжетно знакомую версию при-чети (см. выше), записанную Н. В. Дранниковой в 2001 году в Верхней Золотице, где невеста жалуется матери, шьющей байник: « На серёдочке зашивала распривольную мою волюшку, / Рас-красу мою развеликую - девью жизнь да беспечальную » [5: 86].
Добавим, что помещение в байник хлеба символизировало, что это произошедшее раскрытие – распарывание невесты должно было принести плод (о символике хлеба в полотне подробнее см. у А. К. Байбурина [1: 84]), поэтому далеко не случайно байники в Карельском Поморье часто несли к венцу мальчики-подростки: именно такого «плода» желали молодым и ждали от них.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, этнографические записи второй половины XIX–XX веков, как и показания диалектных словарей, свидетельствуют о повсеместном распространении в прошлом на территории Поморья традиции изготовления особого свадебного хлеба байника. Исследование продемонстрировало продуктивность привлечения к изучению этой обрядовой реалии данных лексикографических источников, которые позволили уточнить не только ее вербальное, но и предметно- акциональное, ритуально-смысловое, локальное наполнение. Помимо отмеченных этнографами выражений, таких как собирать байник, дать на байник, положить на байник, шить байник и др., словари фиксируют возможность переноса данной номинации на другие смежные объекты: скатерть, в которую этот хлеб зашивался, поднос / cтол, на который его ставили, дары, которые клали на них родственники невесты, сам обряд приноса даров и под. Особую символическую нагрузку в контексте использова- ния байника в свадебных ритуалах несут такие лексемы, как зашивание и расшивание (распарывание), и обозначаемые ими действия. Смысловая и хронологическая корреляция ритуала невестиной бани, которая проводилась накануне венчания, и обряда собирания байника может рассматриваться как дополнительное обоснование версии языкового родства наименований баня -байник. В целом изучение данного вопроса, как и других, обозначенных в настоящей работе, должно быть продолжено.
Список литературы Свадебный хлеб байник у поморов: культурно-языковой аспект
- Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. 237 с.
- Балашов Д. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Русская свадьба: Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге (Тарногский район Вологодской области). М.: Современник, 1985. 390 с.
- Бернштам Т. А. Народная культура Поморья в XIX - начале XX в.: этнографические очерки / АН СССР, Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Л.: Наука: Ленинградское отд-е, 1983. 233 с.
- Гревцова Т. Е. Принципы номинации форм обрядового свадебного хлеба у восточных славян // Проблемы истории, филологии, культуры. Языкознание и литературоведение. 2013. № 3. С. 381-390.
- Дранникова Н. В. Фольклорная экспедиция Поморского университета в село Зимняя Золотица // Комплексное собирание, систематика, экспериментальная текстология: Материалы V Междунар. школы молодого фольклориста (6-8 июня 2001 года) / Отв. ред. Н. В. Дранникова. Архангельск, 2002. С. 83-92.
- Зеленин Д. К. Свадебные приговоры Вятской губернии // Зеленин Д. К. Избранные труды / Сост., науч. ред. В. А. Поздеев. Киров: О-краткое, 2013. С. 21-52.
- Зеленина Т. В. Описание свадебного обряда в Сумском Посаде // Народная культура Русского Севера. Архангельск, 1997. С. 161-182.
- Колпакова Н. П. Свадебный обряд на реке Пинеге // Крестьянское искусство СССР. Вып. 2. Искусство Севера. Л., 1928. С. 117-187.
- Мезенская традиционная свадьба в записи М. Н. Мякушина // Из истории русской фольклористики / [Ред-кол.: Е. А. Костюхин (отв. ред.) и др.]. СПб., 2006. Вып. 6. С. 335-419.
- Резниченко Е. Б. Свадьба на «пецяльненьком славном синём море» // Живая старина. 2011. № 4 (72). С. 6-9.
- Русская свадьба Карельского Поморья: (В селах Колежме и Нюхче) [Тексты и ноты / Изд. подгот. А. П. Разу-мова, Т. А. Коски]. Петрозаводск: Карелия, 1980. 222 с.