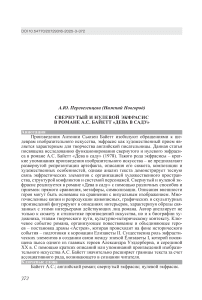Свернутый и нулевой экфрасис в романе А.С. Байетт «Дева в саду»
Автор: А.Ю. Перевезенцева
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Произведения Антонии Сьюзен Байетт изобилуют обращениями к шедеврам изобразительного искусства, экфрасис как художественный прием является характерным для творчества английской писательницы. Данная статья посвящена исследованию функционирования свернутого и нулевого экфрасиса в романе А.С. Байетт «Дева в саду» (1978). Такого рода экфрасисы – краткие упоминания произведения изобразительного искусства – не предполагают развернутой репрезентации артефакта, описания его сюжета, композиции и художественных особенностей, однако анализ текста демонстрирует тесную связь экфрастических элементов с организацией художественного пространства, структурой конфликтов и системой персонажей. Свернутый и нулевой экфрасис реализуется в романе «Дева в саду» с помощью различных способов и приемов: прямого сравнения, метафоры, символизации. Описания внешности героя могут быть основаны на сравнении с визуальным изображением. Многочисленные копии и репродукции живописных, графических и скульптурных произведений фигурируют в описаниях интерьеров, характеризуя образы связанных с этими интерьерами действующих лиц романа. Автор апеллирует не только к сюжету и стилистике произведений искусства, но и к биографии художника, этапам творческого пути, культурно-историческому контексту. Ключевое событие романа, организующее повествование и объединяющее героев – постановка драмы «Астрея», которая происходит на фоне исторического события – подготовки к коронации Елизаветы II. Существенна роль экфрастических элементов в создании связи между эпохой Елизаветы I, которой посвящена пьеса одного из главных героев Александра Уэддерберна, и серединой ХХ в. С помощью кратких описаний или упоминаний произведений изобразительного искусства А.С. Байетт значительно расширяет границы текста за счет ассоциативного ряда, возникающего в сознании читателя.
Байетт А.С., английский роман, свернутый экфрасис, нулевой экфрасис
Короткий адрес: https://sciup.org/149149406
IDR: 149149406 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-372
Текст научной статьи Свернутый и нулевой экфрасис в романе А.С. Байетт «Дева в саду»
A.S. Byatt; English novel; short ekphrasis; zero ekphrasis.
Творчество британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт, лауреата Букеровской премии, пользуется вниманием читателей и исследователей. Ей принадлежат не только художественные произведения, но и рецензии, лекции, критические статьи, посвященные как литературе, так и живописи [Byatt 1992]. Размышления над теоретическими вопросами искусствоведения и литературоведения, вплетенные в текст – характерная черта ее художественных произведений. Критики неизменно отмечают высокую плотность повествования, удивительную наблюдательность автора и умение передать свои наблюдения в словесной форме. Ее проза требует вдумчивого чтения и внимания к деталям, эрудиция читателя играет значительную роль в восприятии ее романов.
Тетралогия о жизни Фредерики Поттер и ее окружения, известная как «Квартет Фредерики», создавалась на протяжении почти четверти века: первый роман «Дева в саду» («The Virgin in the Garden») вышел в 1978 г., четвертая книга «Свистящая женщина» («A Whistling Woman») увидела свет в 2002 г.
Как зарубежными, так и отечественными литературоведами отмечено, что в творчестве писательницы «исследуются границы визуального и вербального» [Бочкарева, Графова 2014, 186], что «для А.С. Байетт эти две области – мысленные образы и конкретные визуальные представления – неразрывно связаны и одинаково важны» [Sorensen 1999, 117].
Профессор Эксетерского университета Ф. Кокс замечает, что Байетт предъявляет к своим читателям очень высокие требования («as an over – intellectual writer who makes too many demands of her readers») [Cox 2013, 263]. Для читателя, не знакомого с творчеством художников, чьи имена встречаются в романе, упоминания их произведений (нередко даже не названных прямо, а заключенных в намек, скрытую цитату или ассоциации героев романа) не вызывают отклика и создают впечатление перенасыщенности текста, избыточной детализации. Напротив, если вслед за намеком в тексте в сознании читателя всплывают изображения, образы и сюжеты, стилистика и колорит произведений изобразительного искусства, творческая биография художника, то границы романа расширяются, визуальный ряд дополняет повествование и вступает с ним в активное взаимодействие.
Н.С. Бочкарева и О.И. Графова обращались к анализу экфрастической экспозиции в первых двух романах тетралогии («Дева в саду» и «Натюрморт»), а также исследованию экфрастических рассказов писательницы. На наш взгляд, отдельного внимания в романе «Дева в саду» заслуживают примеры свернутого и нулевого экфрасиса.
В последние пару десятилетий, в связи с активным интересом к проблемам интермедиальности в литературе, количество исследований экфрасиса как приема и как жанра возросло. Понятие «экфрасис», вошедшее в употребление еще в античную эпоху, в целом сохраняет свою семантику, но претерпевает изменение границ термина. Начиная со второй половины ХХ в. рамки термина «экфрасис» (или – реже – «экфраза») то сужаются до поэтического описания произведения изобразительного искусства [Spitzer 1962], то расширяются до любого примера «воспроизведения одного искусства средствами другого» [Геллер 2002, 13]. М. Константини пишет об «инфляции термина»: «слово “экфрасис” не имеет больше особого смысла» [Константини 2013, 30].
Трудно предположить и то, что термин «экфрасис» уйдет из литературоведения, и то, что границы его будут точно определены. Тем не менее, очевидно стремление исследователей ввести уточняющие характеристики, позволяющие понять, о каком именно явлении идет речь. Классификацию экфрасиса приводит в своей статье «“Любите живопись, поэты…”. Экфра-сис как художественно – мировоззренческая модель» Е.В. Яценко. В рамках данного исследования интерес представляет классификация по объему, и мы опираемся на следующие определения, предложенные в вышеупомянутой статье:
По объему экфрасисы можно разделить на полные, свернутые, нулевые. Полный экфрасис содержит развернутую репрезентацию визуального артефакта, т.е. это экфрасис в классическом варианте. Описание свернутого экфрасиса укладывается в одно – два предложения. <…> Нулевой экфрасис лишь указывает на отнесенность реалий словесного текста к тем или иным художественно – изобразительным явлениям. Нулевой экфрасис может быть миметическим, т.е. подразумевается, что читателю известен референт, на которого указывает автор, и он самостоятельно перенесет характеристики референта на художественные реалии словесного текста [Яценко 2011].
По замечанию М.Г. Уртминцевой, «экфрасис не только словесное обозначение изображения, но и выраженная в нем рецептивная установка на воссоздающее воображение читателя, в частности ориентация его на восприятие подтекста» [Уртминцева 2010, 977]. В результате анализа художественного текста удалось выявить, что краткие описания и упоминания произведений изобразительного искусства выполняют в романе «Дева в саду» разные функции: скрытого или явного сравнения по внешнему признаку, дополнительной характеристики внутреннего мира персонажей, косвенной иллюстрации отношений между героями, а также выступают в роли связующего элемента между историческими эпохами.
Т.Е. Автухович отмечает, что «существенным, хотя и не осмысленным в должной мере, является <…> вопрос о причинах выбора автором экфрасти-ческого текста конкретного артефакта: почему из огромного многообразия шедевров мировой культуры внимания удостаивается именно эта картина, именно этот художник» [Автухович 2018, 223]. В данной статье при анализе произведений изобразительного искусства, фигурирующих в тексте романа «Дева в саду», учитывается культурно-исторический и биографический контекст, эстетическая составляющая, символический подтекст и роль в массовой культуре, в том числе известность и тиражируемость.
Наиболее простой пример свернутого или нулевого экфрасиса – использование его в качестве сравнения. В таком ключе в романе присутствуют упоминания о полотнах Сандро Боттичелли, известного своими воздушными, изящными, одухотворенными женскими образами. Внешность исполнительницы одной из главных ролей Антеи Уорбертон сравнивается с известным образом Венеры с картины Боттичелли «Рождение Венеры», причем при первом знакомстве читателя с героиней автор обозначает признак, который затем ляжет в основу сравнения: «Lodge wound expert fingers up one glossy snake of palehair: Miss Warburton, brisker altogether, her eyes cast modestly down, undid the other. Lodge shook her hair about her face. She stared at him, coolly questioning, through its cloud…», а затем сравнение с живописным образом дается уже прямо: «An-thea had a face like a Botticelli Venus» [Byatt 1992].
Мальчики – участники бутылочного оркестра, выводящие мелодию с помощью разнообразных сосудов, которые издавали звуки разной высоты, если на горлышко подуть под определенным углом, – прямо сравниваются с изображениями античного бога западного ветра с картин Боттичелли, на которых изображен Зефир с раздутыми щеками: «Рождение Венеры» и «Весна»:
Wilkie gave her a plump puckish grin, since Lodge had reached the end of his peroration, pointed his flimsy poniard at the bottleplayers who puffed out their cheeks like Botticelli’s Zephyr andembarked on Rule Britannia [Byatt 1992].
Сравнивается с Венерой и Стефани, которая носит под сердцем ребенка, но не с обнаженной статной богиней любви в копне пшеничных волос с полотна «Рождение Венеры», как Антея, а с Венерой в пышных одеждах и округлым животом, которая изображена в центре картины «Весна». Байетт пишет «the early Venus of the Primavera» [Byatt 1992], вероятно, обозначая со свойствен- ной ей скрупулезностью, что «Весна» была создана раньше, чем «Рождение Венеры». Ранее в тексте эта картина упоминается во время приготовлений к свадьбе Стефани и Дэниела: репродукцию боттичеллиевской «Весны» во время приготовлений к празднику забирает из комнаты старшей сестры к себе в комнату Фредерика:
She envied Frederica, who always wanted something – who had indeed carried off a few of the things that had been left, a tapestry cushion, a hair-pin tray, a print of Botticelli’s Primavera whose blank space on the wall was a paler green than the rest, making it all look dusty [Byatt 1992].
Объединяющий многофигурную композицию картины «Весна» мягкий и одухотворенный образ Венеры, таким образом, соотносится с персонажем Стефани, которой присущи те же характеристики.
Прочие упоминания Боттичелли, кроме относящихся к Стефани, так или иначе связаны с постановкой пьесы – центральным, сюжетообразующим элементом романа. Это связывает эстетику произведений художника со стилистическим решением постановки, и подтверждение этому мы находим в одном из эпизодов, когда Александр обсуждает со Стефани то, каким образом в пьесе обыгрываются темы возрождения и Ренессанса («rebirth and renaissance»). Возникает перекличка смыслов, которая одновременно отсылает к Шекспиру как кумиру автора пьесы Александра Уэддерберна и Боттичелли как к эстетическому образцу для режиссера Бенджамина Лоджа.
Несколько раз упоминается в тексте один из гениев эпохи Возрождения, творивший чуть позже Боттичелли, Микеланджело. Имя одного из величайших скульпторов в истории искусства – Микеланджело – появляется в пассажах, описывающих галерею скульптур в школе Блесфорд-Райд – йоркширском учебном заведении с обширной территорией, где разворачивается основное действие романа. И здесь мы обнаруживаем примеры немиметического экфра-сиса – описание произведений искусства, которых не существует. Скульптуры, расположенные в этой галерее, изображают персонажей европейских мифов и героев Ветхого и Нового завета – от Афины и Бальдра до Моисея и Иисуса, а также деятелей искусства. Чтобы дать читателю представление о том, как выглядят эти статуи, Байетт обращается к ассоциациям с узнаваемыми образами. Статуя сраженного побегом омелы Бальдра уподобляется «Умирающему рабу» Микеланджело, с его же скульптурами без указания на конкретное произведение, а также с памятником Бальзаку работы Родена сравнивается фигура рогатого Моисея.
Имена Родена и Микеланджело встречаются еще не раз. На стене церкви, где служит Дэниел, размещена копия «Страшного суда» Микеланджело:
…in the side chapel, a bad blown–up reproduction of Michelangelo’s depiction of the martyr descending ferociously in the Sistine clouds of judgment, brandishing his knife above his head and trailing his dead leathery integument, on which the artist’s distorted face was depicted [Byatt 1992].
Устойчивая версия гласит, что при работе над фреской художник придал собственные портретные черты апостолу Варфоломею – ученику Христа, мученику, с которого сняли кожу. Стефани, украшающую церковь к празднику, смущает и сюжет, и сам факт подделки – неудачная копия с великого оригинала угнетает ее, и она старается прикрыть роспись цветами. Пугающая история апостола Варфоломея и его стойкость в проповеди служат метафорой пастырского пути Дэниела, которому непрерывно приходится сражаться с атеистическими взглядами и нападками отца Стефани, школьного учителя Билла Поттера. Однако неоднократное повторение, что копия на стене местной церкви не слишком удачна, снижает пафос метафоры, не позволяет идеализировать служение Дэниела.
При описании комнаты, где живет двадцатидвухлетний Дэниел, автор упоминает две известные картины: «Руки молящегося» Альбрехта Дюрера и «Подсолнухи» Ван Гога, не делая указаний на то, репродукция каких именно подсолнухов, коих голландский художник написал около десяти вариантов, украшала стену комнаты священника.
Представитель немецкого Возрождения Альбрехт Дюрер создал рисунок, известный как «Руки молящегося», в качестве наброска при работе над алтарным триптихом (Алтарь Геллера). Со временем рисунок приобрел невероятную популярность, и в ХХ в., когда массовое тиражирование стало обычным явлением, стал узнаваемым символом молитвы и религиозности. Репродукция Дюрера в комнате Дэниела подчеркивает две характерные черты его образа: твердость в выбранном пути и вместе с тем посредственность, обычность – в противовес интеллектуалам Поттерам или творческой личности, Александру Уэддерберну. Об этой же тяге к легко узнаваемым образам, ставшим «визитной карточкой» художника, может свидетельствовать и репродукция «Подсолнухов» Ван Гога, однако несет она и более глубокий смысл. В 1876 г. двадцатитрехлетний Винсент Ван Гог принимает решение стать священником, на протяжении последующих двух лет он читает Библию и готовится к экзаменам. В апреле 1877 г. он пишет брату:
У меня каждый день очень много дел, так что время идет быстро и дни кажутся слишком короткими, даже когда я их немного растягиваю: я испытываю огромную потребность двигаться вперед, хорошо и основательно изучить Писание [Ван Гог 1966, 41].
Но затем он понимает, что университетская теология не привлекает его, и отправляется в маленький шахтерский городок на юге Бельгии, где ведет миссионерскую деятельность и помогает местным жителям. Через несколько месяцев Ван Гога, слишком рьяно ратовавшего за права бедняков, отстранили от должности проповедника, что стало для молодого Винсента серьезным ударом. Но тот же вдохновенный тон обнаруживается в письме к Тео, написанном одиннадцать лет спустя, в августе 1888 г.:
Рисую и пишу с таким же рвением, с каким марселец уплетает свою буйабесс, что, разумеется, тебя не удивит – я ведь пишу большие подсолнечники. <…> Итак, если мой план удастся, у меня будет с дюжину панно – целая симфония желтого и синего. Я уже несколько дней работаю над ними рано поутру: цветы быстро вянут, и все надо успеть схватить за один присест... [Ван Гог 1966, 387].
Таким образом, благодаря упоминанию «Подсолнухов» Ван Гога возникает длинная, ограниченная лишь кругозором читателя, цепь ассоциаций, позволяющих глубже понять характер Дэниела Ортона.
Описание или упоминание картины в интерьере – весьма характерный способ реализации свернутого или нулевого экфрасиса в романе. Репродукция «Ночной охоты» итальянского художника XV в. Паоло Уччелло висит в гостиной Поттеров над местом за столом главы семейства и упоминается автором, когда происходит напряженный разговор про Маркуса между Биллом Поттером и Александром Уэддерберном. Геометрически точно выстроенная композиция, контраст темно–зеленого и ярко–красного на картине, динамичная передача движения и сам сюжет (охота на оленей) подчеркивает как настроение беседы – этакая травля Александра со стороны Билла («Bill, his shirtsleeves rolled up on his pale–veined arms, carved cold mutton, dispensed hot cauliflower and boiled potatoes, and continued to quiz and hector Alexander on his son’s intellectual habits» [Byatt 1992]) так и эстетику дома Поттеров – давящее пространство, заполненное большим количеством разнообразных вещиц.
Наибольшее количество упоминаний произведений изобразительного искусства в романе «Дева в саду» связано с героем Александром Уэддерберном, автором пьесы, вокруг по становки которой и разворачивается действие. Образ Александра окружен рядом произведений, которые помогают автору раскрыть, хоть и в излюбленной ею завуалированной манере, разные стороны жизни персонажа.
Комнату Александра украшают три репродукции, две из них – «Семья комедиантов» и «Мальчик с трубкой» – копии работ Пабло Пикассо, а одна – фото гениальной, но не самой известной скульптуры Родена «Данаида».
Самое простое толкование размещенной на стене у Александра репродукции «Семьи комедиантов» – это связь его с миром театра. Однако смысловая многослойность, присущая авторской манере Байетт, не позволяет допустить подобную трактовку как единственную (хотя упомянутый тут же плакат: «“Бродячие актеры”, пьеса Александра Уэддерберна» становится рифмой к копии Пикассо). Cреди улавливаемых подтекстов можно отметить следующее. Эту работу Пикассо обозначают как рубеж между «голубым» и «розовым» периодом, то есть она открывает плодотворный период в творчестве художника. На пороге признания и творческой удачи находится и Александр. Из специфических черт картины можно выделить удивительную разобщенность персонажей: их взгляды не пересекаются, они кажутся одинокими, несмотря на довольно тесную компоновку фигур и в целом плотную композицию. Нейтральный пустынный фон подчеркивает это состояние. Оно же свойственно многим героям книги: несмотря на постоянное общение, споры, ссоры, обсуждения они не слышат и не понимают друг друга, каждый из них живет в своем мире.
«Мальчик с трубкой» – картина, над которой Александр думает и размышляет. Ее описание в тексте романа довольно пространно по сравнению с прочими приведенными примерами. Загадочный «Мальчик с трубкой» – тайна для Александра, и эта загадка принадлежит только ему. Его странная притягательная сила манит Александра и остается чем–то очень личным: «Alexander ran a finger over these marble men and maidens, and came to rest under The Boy with a Pipe who was his private, his secret joke» [Byatt 1992]. Не случайно, что посетившая комнату Александра Фредерика не узнает эту картину Пикассо.
Напротив, фото скульптуры О. Родена «Данаида» Александр охотно показывает посетительницам. Чувственная и нежная мраморная «Данаида» сопровождает линию любовных терзаний Александра Уэддерберна, его метаний между милой и простой замужней Дженни и дерзкой юной Фредерикой.
Чрезвычайно интересны упоминания творчества Николаса Хиллиарда. Н. Хиллиард – придворный миниатюрист Елизаветы I, однако в тексте всплывает не его знаменитый портрет королевы «Пеликан», но миниатюра «Young man among roses»:
Alexander was leaning classically against the proscenium arch, one leg across the other at an elegant angle she was later to note in Hilliard’s decorous lover behind the delicate pale roses. Crowe was on the move, shepherding the girls into chairs, shouting orders to some invisible being about floods, so that the stage, and Alexander, were gradually and warmly illuminated with rosy–gold light [Byatt 1992].
С помощью сложной цепи ассоциаций образ Александра вписывается в елизаветинскую эпоху: Фредерика видит, что Александр стоит у авансцены, отмечает, что его ноги скрещены, запоминает эту позу, в будущем узнает эти скрещенные лодыжки на картине художника Елизаветинской эпохи Хиллиарда, об этом узнавании говорится в тексте, в сознании читателя должно всплыть изображение молодого юноши среди роз, мысль читателя должна повернуться в сторону куда более известного произведения Хиллиарда (портрет Елизаветы I, Pelican Portrait) – образ английской королевы вновь имплицитно появляется в тексте. Имя Николаса Хиллиарда возникает во всех случаях лишь в связи с Александром, словно увлекая его за собой в XVI в. с его символикой и эстетикой.
Таким образом, свернутый и нулевой экфрасис может выполнять в художественном тексте разные функции. В романе «Дева в саду» автор прибегает к упоминаниям и кратким характеристикам произведений изобразительного искусства, чтобы передать особенности внешности или образа жизни персонажей, раскрыть внутренний мир героев, маркировать пространство, создать связь между разными эпохами. При этом важны не только визуальные образы произведений искусства, которые встречаются в романе А.С. Байетт, но и ассоциативный ряд, который они вызывают.