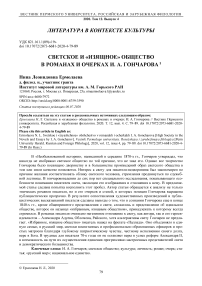Светское и "изящное" общество в романах и очерках И. А. Гончарова
Автор: Ермолаева Нина Леонидовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
В «Необыкновенной истории», написанной в середине 1870-х гг., Гончаров утверждал, что никогда не изображал светское общество по той причине, что не знал его. Однако все творчество Гончарова было посвящено дворянству и в большинстве произведений образ светского общества в том или ином качестве появляется. Интерес к свету для писателя-недворянина был закономерен по причине желания соответствовать облику светского человека, стремления продвинуться по служебной лестнице. В гончарововедении до сих пор нет специального исследования, показывающего особенности понимания писателем света, эволюции его изображения и отношения к нему. В предлагаемой статье сделана попытка восполнить этот пробел. Автор статьи обращается к анализу не только эпических романов писателя, но и его очерков и статей, в которых позиция Гончарова выражена публицистически прозрачно. В результате сопоставления художественных произведений и публицистических высказываний писателя сделаны выводы о том, что в сознании Гончарова еще в конце 1840-х гг., кроме общепринятого представления о свете, сложилось и представление об идеальном обществе, которое он называл «избранным, изящным обществом», принадлежать к которому всегда стремился. В романах писателя очевидно негативное отношение к свету, как автора, так и его героев-идеалистов - Александра Адуева, Обломова, Райского, хотя альтернативы свету Гончаров не предлагает. «Избранное, изящное общество» писатель нашел на фрегате «Паллада». Оно объединяло в единую семью, в русский мир, светски воспитанных и профессионально образованных офицеров и простых матросов благодаря глубокому патриотическому чувству, честному исполнению своего долга, вере в Бога. В трудные для писателя 70-е годы он не оставляет веры в успех реформ Александра II, в возможность на пути их осуществления единения прогрессивно настроенных представителей света и демократического большинства.
И. А. Гончаров, светское общество, культура, личность, роман, очерк, статья, «русский мир», национальное единство
Короткий адрес: https://sciup.org/147229727
IDR: 147229727 | УДК: 821.161.1(09)6199 | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-4-79-89
Текст научной статьи Светское и "изящное" общество в романах и очерках И. А. Гончарова
Вопрос об изображении светского общества в творчестве И. А. Гончарова в отечественном литературоведении специально не ставился, однако неизбежно затрагивался учеными в связи с характеристикой персонажей писателя в свете социальных, нравственных, психологических проблем и коллизий. Исследователей чаще всего удовлетворяла подтвержденная анализом текста констатация факта негативного отношения героя-идеалиста в романах (Александра Адуева, Обломова, Райского) к петербургскому свету, авторская ироническая или полуироническая его оценка [Цейтлин 1950; Пруцков 1962; Недзвецкий 1992; Отрадин 1994; Краснощёкова 1997]. Однако наше понимание Гончарова как художника, для которого на первом плане проблема культуры как общества в целом, так и человеческой личности, позволяет поставить вопрос о его отношении к светскому обществу как один из самых значительных, актуальных на всех этапах жизни и творчества. Обращение к нему требует привлечения текста очерков писателя, его статей, что даст возможность раскрыть эволюцию его мировоззрения: общественно-политических, культурных, эстетических предпочтений.
По мнению В. И. Сахарова, отказавшись от изображения крестьянства и «высшего класса» по причине незнания жизни того и другого [Гончаров 2000c: 260], писатель очертил для себя «узкое» художественное пространство [Сахаров 2008: 23]. Однако дворянство займет первенствующее положение в творчестве Гончарова, и уже самые ранние его произведения говорят об интересе к светскому обществу. Выходцу из купеческой семьи стоило немалых трудов воспитать в себе качества «порядочного человека», черты которого в дворянах закладывались с младенческих лет. В этом Гончаров признавался в письме своему приятелю И. И. Льховскому в июле 1853 г.: «Преимущества Ваши состоят между прочим и в том, что Вы сознательно воспитывались и сохранили в себе, по прекрасной ли своей аристократической натуре, или по обстоятельствам, первоначальную чистоту – этот аромат души и сердца, а я, если б Вы знали… чего стоило бедной моей натуре пройти сквозь фалангу всякой нравственной и материальной грязи и заблуждений… Я должен был с неимоверными трудами создавать в себе сам собственными руками то, что в других сажает природа или окружающие…» [Гончаров 1952d: 285].
Результатом не только исключительного трудолюбия, но и самовоспитания станет продвижение Гончарова по служебной и социальной лестнице от губернского секретаря в 1835 г. в провинциальном Симбирске до действительного статского советника в 1863 г. и позднее члена Главного управления по делам печати. Это определит круг общения писателя: на протяжении многих лет рядом с ним окажутся люди высшего света, его дважды будут приглашать в качестве учителя в царский дом. Из живого, подвижного мальчугана Гончаров превратится, по словам актрисы М. Г. Савиной, в «старинного» милого барина «с тихой приятной речью», от всей фигуры которого веяло «порядочностью и приветливостью» [Савина 2012: 274].
Для молодого писателя светский человек – ориентир на пути самосовершенствования. Под очевидным влиянием книги Д. И. Соколова «Светский человек, или Руководство к познанию правил общежития» Гончаров напишет «Письма столичного друга к провинциальному жениху» (1848), в которых даст характеристику наиболее распространенных типов поведения человека в свете. Автор писем Чельский, выражая позицию самого писателя, откровенно иронически выскажется о большинстве его представителей, таких как франт и лев, поскольку их жизнь подчинена лишь требованиям приличия и самолюбования. Более привлекательным для Чельского является человек хорошего тона, который, кроме наружных манер, отличается «и многими нравственными качествами» [Гончаров 1997b: 473]. Однако «за нравственность его я не поручусь» [там же: 476], – добавляет автор писем и заявляет: «Я могу поручиться вполне только за порядочного человека » [там же]. При этом порядочный человек – это совершенно добродетельный человек, «это герой… больше идеальный, возможный не вполне» [там же: 477]: «…Кто хочет жить между людей, и именно не простых, а цивилизованных людей, в избранном, изящном обществе на земле, тот неминуемо должен быть порядочным человеком» [там же: 480].
В повести «Счастливая ошибка» (1839) писатель впервые дает картину жизни большого света. Представление о свете здесь вполне традиционно: свет – это «особая, сравнительно замкнутая группа в дворянстве. <…> Требовалось безукоризненное “светское” воспитание, хорошие манеры, умение свободно держать себя и поддерживать легкий разговор на любую тему, достаточно правильно и бегло говорить по-французски, безукоризненно одеваться» [Беловин-ский 2007: 602–603]. Сюжет этой светской повести строится на случайной размолвке горячо любящих друг друга Елены Нейлейн и Егора Адуева, развязкой в ней служит случайная же встреча, приведшая к неожиданному примирению героев. Характеристика света в повести во всем соответствует грибоедовской [cм. об этом: Краснощёко- ва 1997: 40–44]: роскошь в обстановке, праздность и пресыщенность жизнью в светских гостиных, двуличие как обязательный атрибут воспитания девушки и молодого человека, оторванность от народной культуры. Егору Адуеву и его приятелям не чужды и шумные, чувственные светские утехи. Однако автор показывает и скрытые за всем этим девичью неопытность, чистоту Елены, страстные, искренние чувства Егора. По вине света герои могли стать несчастны. Однако комическая, пародийная интонация повести с самого начала позволяет читателю быть уверенным в том, что такового не случится.
Посмеяться над соответствующим жанру утомительно возвышенным стилем, преувеличенно контрастными чувствами героев автору помогает обращение к одному из непременных атрибутов такого рода произведений, к образу судьбы. Все, что произошло с героями, – проказы судьбы. Автор предоставляет право судьбе распоряжаться их жизнью и счастьем, а сам намеренно отстраняется: «Кто же виноват? По-моему, никто. Если б судьба их зависела от меня, я бы разлучил их навсегда и здесь кончил бы свой рассказ» [Гончаров 1997c: 80–81]. Уже в «Счастливой ошибке» очевидно насмешливое отношение Гончарова к представителям света.
Почти одновременно со «Счастливой ошибкой» появится повесть «Лихая болесть». Светское воспитание и нравственные качества ее героев автор не подвергает сомнению, хотя и смеется над их страстью к путешествиям. Известно, что прототипами героев были члены семьи Майковых, к которым Гончаров относился с особой симпатией и общество которых предпочитал любому другому на протяжении многих лет. Именно оно, в представлении писателя, и могло соответствовать характеристике «избранное, изящное общество», общество нравственных, светски воспитанных, образованных, эстетически развитых людей, имеющих широкие интеллектуальные интересы. Мечта о таком обществе как об идеале ощутима в подтексте всех произведений Гончарова.
В романе «Обыкновенная история» Петр и Александр Адуевы разными путями приходят в петербургский свет, но в том и другом случае очевидны нравственные потери на этом пути. В финале романа Гончаров как бы ставит вопрос о том, стоит ли этот мир таких жертв. Идеалу порядочного человека дядя и племянник, как и граф Новинский, Сурков, другие второстепенные персонажи, представляющие свет, не соответствуют, их можно назвать лишь людьми хорошего тона. Однако альтернативы светскому укладу жизни Гончаров не видит: в роман не случайно введен рассказ о приобщении Александра к бездуховной и бессмысленной жизни мещанской среды в лице Костякова. Рядом с этим человеком, не равным «ему ни по уму, ни по воспитанию» [Гончаров 1997a: 393], Александр выучился «делать настойку, варить селянку и рубцы», он «так же усердно старался умертвить в себе духовное начало, как отшельники стараются об умерщвлении плоти» [там же]. Не менее бездуховным представляется автору и уклад жизни провинциального дворянства.
Уже в этом романе Гончаров склонен утверждать: «Сфера поведения – очень важная часть национальной культуры…» [Лотман 1994: 6]. Доказательством этому могут служить эпизоды романа, в которых Александр демонстрирует свое неумение или нежелание вести себя как светский человек. Один из таких эпизодов – встреча Александра на даче у Наденьки с графом Новинским. В манерах графа виделись «простота, изящество, какая-то мягкость. Он, кажется, расположил бы к себе всякого, но Адуева не расположил. Александр… сел в угол и стал смотреть в книгу, что было очень не светски, неловко, неуместно» [Гончаров 1997a: 271]. Очевидно, что в этой ситуации Александр нарушает «кодекс светского общения»: 1) вежливость, такт – «соблюдай интересы другого человека»; 2) одобрение, согласие – «не порицай другого человека», «избегай возражений»; 3) симпатии – «будь доброжелателен, приветлив» [Зельдович 2007: 16].
Своим поведением Александр компрометирует себя в глазах окружающих: его поведение веселит графа, «Надинька переглянулась с матерью, покраснела и потупила глаза» [Гончаров 1997a: 271]. И герой вынужден признать свое поражение: он «оробел. Дерзкая и грубая мина уступила место унынию. Он походил на петуха с мокрым хвостом…» [там же: 273]. Сочувствуя герою, автор смеется над ним. Несмотря на сопротивление юного Александра установленным в свете правилам, в эпилоге романа он им подчинится.
В романе «Обломов» заглавный герой далек от света. Среди людей «хорошего тона» в гостиной тетки Ольги Ильинской ему неуютно, его поведение вызывает улыбку Ольги и автора. Из его уст читатель слышит критику светского образа жизни: «Свет, общество! <...> Чего там искать? интересов ума, сердца? <…> Все это мертвецы, спящие люди… <…> Собираются на обед, на вечер, как в должность, без веселья, холодно, чтоб похвастать поваром, салоном и потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому» [Гончаров 1998: 173]. Штольц не может всерьез возразить Обломову. И в этом про- изведении Гончаров не предлагает альтернативы свету: жизнь Обломовки и Выборгской стороны для Обломова губительна. Однако авторский вывод не столь однозначен: отказ Обломова от света оказывается спасителен для героя. Неизвестно, к каким духовным потерям привело бы его стремление превратиться в делового человека, но рядом с вдовой Пшеницыной он реализовался как нравственный человек: стал любимым мужем, добрым отцом чужим детям, продолжателем рода Обломовых, «оживил» «каменную Галатею» Агафью Матвеевну.
Роман «Обрыв» открывается картиной жизни петербургского света. Его обитатели увидены не только автором, но и героем, Райским. Он познал свет в ранней юности и разочаровался в нем. «Чудесный мир» общения светского молодого человека в Петербурге – «это мир – без привязанностей, без детей, без колыбелей, без братьев и сестер, без мужей и без жен, а только с мужчинами и женщинами» [Гончаров 2004: 89].
Во всех произведениях Гончарова образ жизни светского человека связан с образом города Святого Петра, имя которого означает «камень» [Жития Святых 1999: 683]. Александр Адуев видит Петербург в образе «каменной гробницы», в первом романе ясно звучит тема влияния на человека самого города-камня. В романе появляются герои, возможные только в петербургском свете – Аянов и Пахотин. Гончаров последовательно накладывает на характеристику Аянова приметы северной столицы: «Он принадлежал Петербургу и свету, и его трудно было бы представить себе где-нибудь в другом городе, кроме Петербурга, и в другой сфере, кроме света… <…> …в нем отражались, как солнце в капле, весь петербургский мир, вся петербургская практичность, нравы, тон, природа, служба…» [Гончаров 2004: 6]. В петербургском свете есть свой «шалун» – Николай Васильевич Пахотин: «Свет, опыт, вся жизнь его не дали ему никакого содержания», но «образовали ему какой-то очень приятный мелкий умок…» [там же: 15]. Отпечаток однообразия и скуки, петербургской «окаменелости», «сна жизни» автор видит и в Софье Беловодовой, ее тетушках.
В «Обрыве» Гончаров находит альтернативу светскому обществу с его бездуховностью и окаменелостью: движение жизни, теплые отношения, добрые нравы, хранимые веками представления о чести и достоинстве дворянина теперь он связывает с провинцией. При этом бабушкина Малиновка – это созданный воображением Гончарова сад Эдем. Провинцию как таковую писатель все-таки не идеализирует: сон и скука и там одолеют Райского.
Очевидной и убедительной альтернативой свету станет изображенное Гончаровым, также с определенной долей идеализации, сообщество путешественников, русский мир, на фрегате «Паллада». Судьба подарила писателю возможность познакомиться и подружиться с офицерами и учеными, составлявшими кают-компанию фрегата. Т. И. Орнатская писала, что «почти каждого из ее членов можно было бы смело отнести к разряду “лучших людей” страны» [Орнатская 1994: 146]. В «Очерках путешествия» автор выражает к своим спутникам теплое дружеское участие, рассказ о многих из них согрет мягким юмором. В адмирале Е. В. Путятине, в командире фрегата И. С. Унковском, в К. Н. Посьете, В. А. Римском-Корсакове, П. А. Тихменёве, П. А. Зелёном, Н. Н. Савиче, А. А. Халезове, К. И. Лосеве, Н. А. Крюднере, А. А. Болтине, И. И. Бутакове, а также в штатских: О. А. Гошкевиче, архимандрите Аввакуме – Гончаров находит лучшие нравственные качества. Каждый из этих людей – профессионал в своем деле, однако едва ли не о каждом из них Гончаров мог бы сказать: «Он светский человек, а такие люди всегда мне нравились» [Гончаров 1997d: 57], его не смущает при этом то обстоятельство, что в свет не принимались профессионалы, кто жил «на заработки: ученые, преподаватели, в т. ч. профессора, артисты, художники, литераторы (кроме любителей) и т. п.» [Беловинский 2007: 603].
Офицеры фрегата покоряют Гончарова образованностью, интеллигентностью, добродушием, трудолюбием, отвагой, верностью требованиям долга и понятиям чести2. Гончаров создает собирательный образ русского моряка, офицера, честно исполняющего свой долг, умелого и ответственного, образованного и благородного, обладающего тонким чувством юмора. Они по-братски любят рассказчика, всегда готовы помочь ему. Несомненно, что каждого из этих людей Гончаров мог бы назвать «порядочным человеком», а их общество охарактеризовать словами «избранное, изящное общество».
В отличие от петербургского света, русский мир на фрегате включает в себя не только представителей дворянства. Бóльшая часть команды фрегата – матросы. Они изображены Гончаровым как члены той же большой семьи. Народный мир в очерках многолик, автор называет немало матросов, характеризуя каждого из них: музыкант Макаров, буфетчик Янцен, скотник Михелька Керн, артиллерист Дьюпин, камердинер барона Крюднера Афанасий, боцман Терентьев, матросы Паисов, Мотыгин, Агапка, Фёдоров, Витул и др. Гончаров не однажды с чувством гордости показывает, как матросы испол- няют свою службу, приводя в восторг чужеземцев. Для путешественника это «одушевленная масса» [Гончаров 1997d: 334], за всеми действиями, словами и мыслями которой стоит глубокое патриотическое чувство, дорогое повествователю.
Мифологическое сознание матросов роднит их с детьми. Изображение матросов как «больших детей», которым необходима опека, помогает созданию образа большого семейства. На протяжении плавания чувство родственного, «семейного» единения с матросами и офицерами фрегата возрастает в душе автора. По ходу развития повествования во «Фрегате…» «я» рассказчика постепенно заменяется на «мы». Если в главе «Атлантический океан и остров Мадера» на тридцати одной странице «мы» встречается 53 раза, то в главе «От Манилы до берегов Сибири» на сорока девяти страницах – 136 раз3. Думается, это свидетельствует о том, что единение рассказчика с командой фрегата состоялось. В очерке «Два случая из морской жизни», дополняющем «Фрегат “Паллада”», Гончаров скажет, что на корабле «целое общество живет… одною жизнию, часто одною мыслию, одними желаниями» [Гончаров 2000a: 10–11], а в очерке «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» пишет о том, что «дальнее плавание… введет плавателя в тесное, почти семейное сближение с целым кругом моряков, отличных, своеобразных людей и товарищей» [Гончаров 2000b: 55].
В изображении Гончарова русских людей на корабле объединяет вера в Бога, священник на корабле – духовный отец. Такая миссия выпала на долю архимандрита Аввакума, образ которого проникнут глубокой авторской симпатией. Он соответствует представлениям писателя об идеале верующего человека: Гончаров «не требует от человека аскезы и максимальной самоотдачи и самопожертвования», предпочитает веру «младенческую» [Мельник 1995: 210, 204].
Образ русского мира в очерках Гончарова – это образ мира деятельного, героического. На фрегате офицеры работают наравне с матросами, их тяжелейший труд делает возможным поход в Японию на старом парусном фрегате: победа над разбушевавшейся стихией могла быть одержана только благодаря общим усилиям, «авральной» работе, братскому, соборному единению в ней матроса и офицера. Свой рассказ о плавании Гончаров заканчивает словами, проникнутыми глубоким чувством: «Но если б вы знали, что это за изящное, за благородное судно, что за люди на нем, так не удивились бы, что я скрепя сердце покидаю “Палладу!”» [Гончаров
1997d: 627]. Думается, что именно в этом произведении писатель находит то самое согласие с миром, народом, нацией, которое всегда жаждал обрести. Воспоминания о путешествии всегда были дороги Гончарову, долгое время он мечтал вернуться в «избранное, изящное общество», к которому приобщился на фрегате, даже в 58 лет вновь мечтал отправиться в плавание на военном корабле, о чем вел переписку с К. Н. Посьетом [Гончаров 2000c: 25].
Особенно дороги писателю воспоминания об этих людях оказались в 70-е годы, когда он оказался в очень тяжелой жизненной ситуации. Критика недоброжелательно встретила роман «Обрыв», о Гончарове заговорили как о писателе, отставшем от века. Он оставил службу и закрылся в своей холостяцкой квартире. Это обостряло чувство одиночества, собственной ненужности. В середине 70-х Гончаров напишет свое странное завещание – «Необыкновенную историю».
В 70-е гг. свобода критики стала символом новой эпохи. А. И. Журавлёва писала об этом: «…На фоне отечественных традиций и установлений, в контексте всей истории и идеологии русского самодержавия возможность гласной критики выглядела чем-то невероятным» [Журавлёва 1998: 15]. И это не способствовало сохранению традиций, повышению культуры человека, но вело к общественному разъединению, к обострению социальных конфликтов. Писатель видит, что с утратой уважительного отношения к образу жизни аристократии в 1860–1870-е гг. общество теряет и уважение к серьезному классическому образованию, вековой культуре, нравственному воспитанию. Как следствие этого Гончаров рассматривает то, что происходит в современном ему театре. В статьях «Опять “Гамлет” на русской сцене» и «Мильон терзаний» Гончаров говорит о «порче вкуса» публики, о низкой актерской культуре: «Большинство артистов не может также похвастаться… верным художественным чтением. <…> …с русской сцены все более и более удаляется это капитальное условие» [Гончаров 1952b: 78]. В обеих статьях Гончаров высказывает опасения за судьбу русского театра.
В контексте этих раздумий автора объяснима та откровенно ностальгическая интонация, которая появляется в его очерке «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» (1874), рассказывающем о тяжких испытаниях, выпавших на долю экипажа фрегата после того, как писатель высадился с него на российском берегу. Он задается вопросом: что помогло экипажу фрегата пережить землетрясение в Симодо, гибель корабля, строительство шхуны «Хеда», долгие пешие переходы в чужой стране, тяжелейшее путешествие по Амуру и Сибири по пути на родину, и отвечает: стойкость и трудолюбие, сострадание, душевная щедрость, забота о ближнем, соборное единение перед лицом смерти. Рассказывая о том, что Россия вступила в войну, писатель говорит о русских людях как истинных патриотах, которые готовы затопить свой корабль, чтобы порох и пушки, находящиеся на нем, не достались врагу. О патриотизме Гончаров напишет и в «Необыкновенной истории»: «…Патриотизм – не только высокое, священное и т. д. чувство и долг, но он есть – и практический принцип, который должен быть присущ, как религия, как честность, как руководство гражданской деятельности, – каждому члену благородного общества, народа, государства!» [Гончаров 2000c: 256]. Очерк «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» – это дань памяти людям, которые являли собой живой пример тех нравственных качеств, которые представлялись принадлежностью идеального героя писателя.
Очерк «Литературный вечер» (1877) стал попыткой Гончарова заявить о своем отношении к современной общественной и культурной ситуации. О том, что желание это было глубоко выношенным, свидетельствует и «Необыкновенная история», в которой намечена как бы схема этого очерка, обозначены его проблемы [см.: там же: 270–274]. Действие очерка разворачивается в гостиной высокопоставленного чиновника Ура-нова. На вечер приглашены не новые здесь лица: княгиня Тецкая с дочерью, «известная в свете вдова Лилина», «светская окаменелость» граф Пестов, близкие приятели хозяина – сослуживец Сухов и «отличный боевой генерал», – несколько молодых офицеров. Уранов с удовольствием «угощает» общество чтением романа из жизни высшего света, написанного ближайшим приятелем и сослуживцем Бебиковым. Великосветские гости Уранова, как и сам хозяин, изображены автором с известной долей юмора, о чем немало писали как критики, так и исследователи.
По случаю литературного чтения приглашены и «эксперты» в области литературы: «приятель Булгарина и Греча» старик Краснопёров; редактор журнала; «известный профессор словесности»; знаток политической и духовной жизни Трухин; апатичный пожилой беллетрист Ску-дельников, в котором, по признанию Гончарова, он изобразил самого себя. По просьбе хозяина развлечь публику его племянником приглашен газетный критик Кряков. Первая часть очерка представляет собой в основном пересказ романа Бебикова, превращенный Гончаровым в паро- дию, о чем тоже писали критики и исследователи. Обсуждая услышанное во время прекрасного ужина, хозяин и его светские гости сходятся во мнении: роман хорош и автора надо поблагодарить старинным кубком работы Бенвенуто Челлини.
Однако Кряков высказывает несогласие с общим мнением, и между слушателями разгорается спор, который выходит за рамки принятых в свете норм общения, его участники едва не доходят до личных оскорблений. Кряков ведет себя как человек, не знающий «хорошего тона»: «жал в руках серую мягкую шляпу и, по-видимому, не знал, что с собой делать» [Гончаров 1952a: 116]; задел ногой за щипцы камина, которые упали с грохотом; ел и пил много и с большим аппетитом. Окружающих возмущают его дерзкие суждения и вызывающее поведение, некоторые из них желают дать ему «урок приличия» [там же: 145]. Однако герой отказывается ему следовать и говорит все смелее и смелее. На Крякова смотрят «брезгливо» [там же: 156], сравнивают его с невоспитанным медведем, с «паршивой» и «заблудшей» овцой [там же: 183]. Эти мнения подтверждаются авторскими сравнениями: «как бульдог» [там же: 158], «рыкал, как лев» [там же: 168] и др.
Реплики Крякова в споре носят провокационный характер. По его инициативе предметом обсуждения становятся вопросы политические, социальные, общественные, эстетические, нравственные, позиция Крякова – это позиция нигилиста, о чем писал еще Н. К. Михайловский [Михайловский 1880: 100]. Главным оппонентом Крякова становится умный, образованный старик Чешнёв, прототипом которого принято считать Ф. И. Тютчева4. Даже почти оскорбительные обвинения его Кряковым в шовинизме не могут вызвать Чешнёва на ответную бестактность, этот герой, несомненно, является воплощением представлений Гончарова о порядочном человеке, прекрасно воспитанном, глубоко мыслящем, обеспокоенном судьбой Отечества, истинном патриоте.
Оставляя за Скудельниковым право молчания, Гончаров выражает свою позицию устами либерально настроенных «знатоков литературы» и Чешнёва. Исследователи уже доказывали прямые совпадения ряда их суждений «о роли идеала, фантазии в искусстве, о тенденциозном романе, о русском языке, о реализме Л. Н. Толстого и др.» с высказываниями самого Гончарова [Чернец 1995: 192–193]. Однако до сих пор не вполне проясненной остается общественнополитическая позиция писателя. Очевидно, что автору очень дороги и близки слова Чешнёва о духовной и бытовой культуре современного общества, о том, что «давно пора было поднять копье против <…> всякой расшатанности и растрепанности в людском обществе, против всякого звероподобия!» [Гончаров 1952a: 166]. Гончаров отстаивает классическое образование как необходимый фундамент для каждого культурного человека. Об этом также говорит его герой: «Пусть волчица и не кормила Ромула и Рема, а все-таки нельзя не выучить этой фабулы... <...> Без этой подкладки древних классиков, их образцов во всем – смело скажу, человек образованным назваться не может» [там же: 176].
Общественно-политическая позиция Гончарова выражена в очерке вполне однозначно: все присутствующие в гостиной Уранова, не исключая и «нигилиста» Крякова, не принимают авантюризм Бакунина и его «Панургова стада». Полемическим ответом писателя в их адрес являются слова Чешнёва: «Русский народ исполняет… свою великую и национальную и человеческую задачу… в ней ровно и дружно работают все силы великого народа, от царя до пахаря и солдата! Когда все тихо, покойно, все, как муравьи, живут, работают, как будто вразброд… но лишь только явится туча на горизонте, загремит война, постигнет Россию зараза, голод – смотрите, как соединяются все нравственные и вещественные силы… <…> Перед вами уже не графы, князья, военные или статские, не мещане или мужики – а одна великая, будто из несокрушимой меди вылитая статуя – Россия!» [там же: 169]. Монолог героя в полной мере отражает давно сложившиеся представления писателя о русской нации. Ту же мысль находим в «Необыкновенной истории»: «Но против узкого и эгоистического радикализма юношей-недоучек, против партий действия санкюлотов – общество вооружено здравомыслием, зрелостью и всякою, то есть и моральною, интеллектуальною и вещественною силою – и разливу этих крайних безобразий радикализма помешают – все и все» [Гончаров 2000c: 271].
Эти суждения согласуются с исторической концепцией Гончарова: в отличие от многих современников, в 70-е годы он оптимистично смотрит в будущее и достаточно ясно высказывает это в письмах и статьях. Писатель считал, что с приходом к власти Александра II Россия «переживает великую эпоху реформ: такой эпохи, такой великой работы всего царства не было с Петра» [Гончаров 1952c: 128]. Гончаров верит, что на смену романтикам и идеалистам в настоящее время приходят деловые, знающие, целеустремленные люди и приветствует их в образе деятельного и сердечного Тушина.
Неожиданный финал очерка, в котором обнаруживается, что Кряков – это не нигилист, а известный актер, критиками и исследователями был назван «водевильным»5. Однако Михайловский оценил его как оптимистический: увидел в нем единение «отцов» и «детей», под которыми разумел Чешнёва и Крякова. В финале эти герои «расстаются со всеми признаками взаимного уважения» [Михайловский 1880: 101]. Действительно, финал служит как бы подтверждением возможности духовного единения нации: актер дает урок великосветским гостям Уранова, наглядно доказывая, что «порядочность есть везде, она бывает и под армяком!» [Гончаров 1952a: 159]: денежный сбор за свое представление он жертвует в пользу герцоговинцев. И великосветские гости Уранова вынуждены признать, что этот честный труженик морально превзошел их. Примирение происходит – герои с радостью протягивают друг другу руку. Однако наиболее консервативно мыслящие представители света («приятель Булгарина и Греча» Краснопёров и «светская окаменелость» граф Пестов) не посещают спектакль в Павловске, они отпадают от того общенационального единства, к которому призывает Гончаров. Думается, в 70-е гг. писатель стремился примирить понятие «избранное, изящное общество» с понятием «свет» и разделял убеждение Пушкина в том, что «люди света проще и потому ближе к народу» [Лотман 1983: 347]. Сам Гончаров мог бы служить примером такой близости: вполне осознавая себя представителем лучшей части светского общества, в 1877 г. он принял на себя заботу о семье умершего слуги Трейгута.
Заключая, хотелось бы отметить, что обращение к анализу не только эпически уравновешенных романов Гончарова, но и его публицистически взволнованных очерков и статей позволило нам уточнить представления писателя о светском обществе, показать, что уже в конце 40-х гг., в противовес свету, он считал возможным существование идеального, «избранного, изящного общества». В романах альтернативы свету автор не предлагает. «Избранным, изящным обществом» для писателя стал «русский мир», единение светски воспитанных, профессионально образованных офицеров и простых матросов на фрегате «Паллада». В этих людях он увидел лучшие человеческие качества, глубокое патриотическое чувство. В трудные для России 70-е годы, в эпоху активных нападок на аристократию со стороны демократического лагеря, Гончаров не оставляет веры в положительное значение людей света для культурной, общественной и политической жизни страны, веры в успех реформ Алек- сандра II при условии духовного единения прогрессивно настроенных представителей аристократии и демократического большинства.
SPIN-code: 6600-7972
Список литературы Светское и "изящное" общество в романах и очерках И. А. Гончарова
- Алексеев П. П. Цивилизационный аспект русской духовности во «Фрегате "Паллада"» И. А. Гончарова // И. А. Гончаров: Материалы международной научной конференции, посвящ. 195-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск: ООО НИКА-дизайн, 2008. С. 38-54.
- Беловинский Л. В. Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа. XVIII - начало XX в. М: Эксмо, 2007. 783 с.
- Гончаров И. А. Два случая из морской жизни // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. СПб.: Наука, 2000а. Т. 3. С. 5-25.
- Гончаров И. А. Из воспоминаний и рассказов о морском плавании // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. СПб.: Наука, 2000Ь. Т. 3. С. 26-55.
- Гончаров И. А. Литературный вечер // Гончаров И. А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Правда, 1952а. Т. 7. С. 106-185.
- Гончаров И. А. Мильон терзаний // Гончаров И. А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Правда, 1952Ь. Т. 8. С. 51-79.
- Гончаров И. А. Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв» // Гончаров И. А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Правда, 1952с. Т. 8. С. 124-134.
- Гончаров И. А. Необыкновенная история: (Истинные события) // Литературное наследство. Т. 102: И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН «Наследие», 2000с. С.184-326.
- Гончаров И. А. Обыкновенная история // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. СПб.: Наука, 1997а. Т. 1. С. 172-469.
- Гончаров И. А. Обломов // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. СПб.: Наука, 1998. Т. 4. С. 5-493.
- Гончаров И. А. Обрыв // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. СПб.: Наука, 2004. Т. 7. С. 5-772.
- Гончаров И. А. Письма столичного друга к провинциальному жениху // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. СПб.: Наука, 1997Ь. Т. 1. С. 470-483.
- Гончаров И. А. Письмо к И. И. Льховскому // Гончаров И. А. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Правда, 1952d. Т. 8. С. 283-286.
- Гончаров И. А. Счастливая ошибка // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. СПб.: Наука, 1997с. Т. 1. С. 65-102.
- Гончаров И. А. Фрегат Паллада // Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. СПб.: Наука, 1997d. Т. 2. С. 7-740.
- Жития Святых / сост. священник и законоучитель Иоанн Бухарев. М.: Отчий дом, 1999. 694 с.
- Журавлёва А. И. Правда - хорошо, а счастье лучше // Литература в школе. 1998. № 3. С. 12-18.
- Зельдович Б. З. Деловое общение. М.: Альфа-Пресс. 2007. 452 с.
- И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву. 1877-1882. СПб.: Типография Воейкова, Бассейная, 3. 1906. 64 с.
- Краснощекова Е. А. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. СПб.: Пушкинский фонд, 1997. 496 с.
- Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII -начало XIX века). СПб.: Искусство-СПб, 1994. 398 с.
- Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л.: Просвещение, 1983. 416 с.
- Мельник В. И. О религиозности И. А. Гончарова // Русская литература. 1995. № 1. С. 203-212.
- Михельсон В. А. Закованные берега: Этюды о «Фрегате "Паллада"» И. А. Гончарова // Морская тема в литературе. Краснодар, 1965. С. 24-56.
- Недзвецкий В. А. И. А. Гончаров - романист и художник. М.: МГУ, 1992. 176 с.
- Н. М. [Михайловский Н. К.] Литературные заметки // Отечественные записки. 1880. № 1. С.94-107.
- Орнатская Т. И. И. А. Гончаров - член кают-компании фрегата «Паллада» // И. А. Гончаров. Материалы Международной конференции, посв.
- 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск: ТОО «Стрежень», 1994. С. 146-155.
- Отрадин М. В. Проза И. А. Гончарова в литературном контексте. СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта, 1994. 168 с.
- Пруцков Н. И. Мастерство Гончарова-романиста. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1962. 228 с.
- Савина М. Г. Записки. И. А. Гончаров // Гончаров в воспоминаниях современников. Ульяновск: ООО «Регион-Инвест», 2012. С. 273-276.
- Сахаров В. И. И. А. Гончаров в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2008. 112 с.
- С-В. [Венгеров С. А.] Новое произведение И. А. Гончарова. Литературный Вечер, очерк (Русская Речь, январь, 1880) // Русский вестник. 1880. № 1. С. 440-462.
- Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 491 с.
- Чернец Л. В. «Как слово наше отзовется.». М.: Высшая школа, 1995. 239 с.