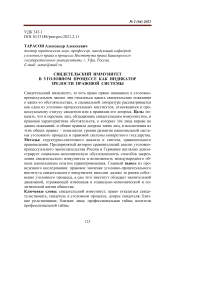Свидетельский иммунитет в уголовном процессе как индикатор зрелости правовой системы
Автор: Тарасов Александр Алексеевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Актуальные вопросы развития отраслевого законодательства
Статья в выпуске: 2 (64), 2021 года.
Бесплатный доступ
Свидетельский иммунитет, то есть право прямо названных в уголовно-процессуальном законе лиц отказаться давать свидетельские показания о каких-то обстоятельствах, в специальной литературе рассматривается как один из уголовно-процессуальных институтов, относящихся к процессуальному статусу свидетеля или к правилам его допроса. Цель: показать, что и перечень лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, и правовая характеристика обстоятельств, о которых эти лица вправе не давать показаний, и общие правила допроса таких лиц, и исключения из этих общих правил - показатели уровня развития национальной системы уголовного процесса и правовой системы конкретного государства. Методы: структурно-системного анализа и синтеза, сравнительного правоведения. Предпринятый автором сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства России и Германии наглядно демонстрирует социально-экономическую обусловленность способов закрепления свидетельского иммунитета и возможность международного обмена накопленным опытом правоприменения. Главный вывод из проведенного исследования: правовое значение уголовно-процессуального института свидетельского иммунитета выходит далеко за рамки собственно уголовного процесса, а сам этот институт обладает значительной динамикой, отражающей изменения в социально-экономической и политической жизни общества.
Свидетельский иммунитет, право отказаться свидетельствовать, свидетель в уголовном процессе, допрос свидетеля, близкие родственники, близкие лица, профессиональная тайна, носители профессиональной тайны
Короткий адрес: https://sciup.org/142232967
IDR: 142232967 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Свидетельский иммунитет в уголовном процессе как индикатор зрелости правовой системы
Право не свидетельствовать против себя самого, против своих супругов и родственников, против других лиц, которые дороги потенциальному свидетелю по каким-то личным причинам, с давних времен, а точнее как минимум с первых буржуазных революций, относилось к числу основных прав и свобод человека и гражданина. Право носителя профессиональной тайны отказаться давать свидетельские показания на следствии и в суде по уголовным делам в целях неразглашения конфиденциальных сведений – это более позднее изобретение человечества, но все же не менее традиционное уголовно-процессуальное явление, получившее отражение в законодательстве большинства современных государств.
Свидетельский иммунитет, в который мы здесь условно включаем и привилегию против самообвинения, можно считать универсальным процессуальным институтом, действующим во всех сферах правосудия современных государств. Однако позволим себе сосредоточиться лишь на уголовном процессе как на той отрасли правосудия, в которой затрагиваются и ограничиваются наиболее значимые личные конституционные права и свободы, не умаляя при этом значимости этих же ценностей в других его отраслях.
Свидетельский иммунитет родственника или профессионала – это не просто универсальный межотраслевой процессуальный институт, это еще и средоточие многих других проблем правовой системы. То, кому именно предоставляется право отказаться свидетельствовать по уголовным делам по личным или профессиональным причинам, то, в отношении каких сведений это право действует, равно как и отдельные нюансы реализации этого права, наглядно демонстрирует уровень развития правовой системы, государства и общества. Правовая практика большинства государств наглядно демонстрирует и социально-политическую обусловленность свидетельского иммунитета, и его историческую подвижность.
В УПК РСФСР 1960 г., как известно, не был предусмотрен свидетельский иммунитет близких родственников. Автор наиболее известного учебно-научного труда о процессуальном статусе свидетеля в советском уголовном процессе В.И. Смыслов верно отмечал, что требование от близких родственников обвиняемого свидетельских показаний против него под страхом уголовной ответственности противоречит социалистической морали [1, с. 27]. Он же писал, что Верховный Суд СССР крайне осторожен в оценках таких свидетельских показаний ввиду понятности мотивов для лжи [1, с. 27]. В это время в советской юридической литературе предлагались самые разнообразные пути решения этой проблемы: от декриминализации лжесвидетельства в отношении близких родственников до весьма специфического советского варианта – от уголовной ответственности отказаться, но передавать такие дела на суд общественности [1, с. 28]. Был и промежуточный, сугубо правоприменительный прием – не предупреждать об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний и подписку об этом при допросе родственников не отбирать, что в практике тех лет получило довольно широкое распространение [1, с. 27]. И все это на фоне уголовно-процессуального закона, который не меняется. Констатация его аморальности ситуацию тоже не меняет.
В 1989 г. профессор Л.М. Карнеева при том же действующем законе обратила внимание на необходимость закрепления в нем свидетельского иммунитета для близких родственников и апеллировала уже к современному ей особому периоду общей гуманизации советского общества [2, с. 111].
Вторая половина 1980-х годов – эпоха так называемой перестройки и гласности. Однако и далее с УПК РСФСР так ничего в этой части и не происходит. Право отказаться от дачи показаний закрепляется в Конституции России 1993 г., но изменения в УПК РСФСР так и не вносятся, несмотря на конституционную отсылку к федеральному закону, который бы и должен определить круг лиц, обладающих этим правом. Однако этого, вплоть до принятия в декабре 2001 г. УПК РФ, так и не случилось. Советская следственная и судебная практика отказа от привлечения к уголовной ответственности за лжесвидетельствование супругов и близких родственников при наличии к тому формальных оснований сохранилась и была подкреплена в декабре 1993 г. конституционной нормой прямого действия.
В ст. 56 УПК РФ 2001 г., введенного в действие с 1 июля 2002 г., было, наконец, закреплено право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и своих близких родственников, круг которых определялся в ст. 5 УПК РФ, причем с очевидной терминологической ошибкой: среди близких родственников в этой общей статье, как и в специальной ст. 56 УПК РФ, названы супруги, которые по определению близкими родственниками не являются.
Был в ст. 56 УПК РФ решен и вопрос об, условно говоря, «профессиональном свидетельском иммунитете». По закону теперь не допускается допрос в качестве свидетелей священников – об обстоятельствах, ставших известными из исповеди, адвокатов – об обстоятельствах оказания ими любой квалифицированной юридической помощи, судей и при- сяжных заседателей – об обстоятельствах, ставших им известными при отправлении правосудия, членов и депутатов обеих палат Федерального Собрания – без их согласия. Здесь важно отметить, что перечень носителей профессиональной тайны, которых нельзя допросить об обстоятельствах, ее составляющих, по мере накопления опыта применения нового уголовно-процессуального закона дополнился сначала должностными лицами налоговых органов – об обстоятельствах, связанных с налоговыми декларациями, уполномоченными по правам человека. Не менее значимо, что отдельные положения этой нормы подвергались корректировке, отражающей накопленный опыт. Так, появилась оговорка о возможности допросить адвоката об обстоятельствах оказания им юридической помощи, если он сам выражает такое желание.
Российским законодателем, таким образом, были усвоены важные особенности свидетельского иммунитета как социально обусловленного межотраслевого правового института. Во-первых, действие свидетельского иммунитета затрагивает многие сферы общественной жизни. Во-вторых, в нем отражается специфика конкретного этапа развития государства и общества. В-третьих, будучи закрепленным в законодательстве, свидетельский иммунитет способен оказывать обратное влияние на все эти сферы жизни общества. В связи со сказанным свидетельский иммунитет – это не раз и навсегда заданный процессуальный институт. Он весьма подвижен, поскольку зависит от уровня развития правовой системы страны, от социально-экономических, политических и иных условий жизни ее населения. Очень хорошо, что такое движение в российском законодательстве началось. Однако сравнение законодательных решений проблем свидетельского иммунитета в России и в таком развитом европейском государстве, как Федеративная Республика Германия, показывает, что мы, то есть Россия и ее правовая система, пока еще в самом начале этого правильного пути.
Определяя свидетельский иммунитет близких обвиняемого в § 52 уголовно-процессуального закона ФРГ (Strafprozessordnung der Bundes Republic Deutschland1, далее – StPOdBRD), германский законодатель распространяет право отказаться от свидетельствования не только на супругов, но и на помолвленных (Verlobte), на бывших супругов (auch wenn die Ehe nicht mehr besteht), если брак больше не существует, на свойственников, то есть родственников супругов до второй степени родства с последними, а также на бывших свойственников, то есть родственников бывших супругов (verschwägert ist oder war). С позиций здравого смысла это выглядит абсолютно понятным: расторжение юридического брака не только не препятствует сохранению добрых отношений между бывшими супругами и их родными, но и оставляет в силе важную часть их совместной жизни – воспитание общих детей и внуков. Все сказанное к юридической регистрации брака вообще не имеет отношения. Эти люди дороги друг другу, и обязывать их свидетельствовать друг против друга под страхом уголовной ответственности – одновременно и безнравственно, и бесперспективно с точки зрения достоверности полученной от них информации.
Свидетельский иммунитет, закрепленный в § 52 УПК ФРГ, нельзя считать собственно «родственным», хотя в русской литературе термин Angehörige des Beschuldigtes иногда переводят именно так. В прежних своих публикациях нами обращалось внимание на то, что существительное Angehörige происходит от глагола angehören, означающего буквально «принадлежать», и совсем не обязательно в качестве члена семьи [3, с. 90]. Речь идет о близких людях, которые дороги друг другу. Перечень этих лиц в самом германском законе близок именно к такому значению употребленных в нем слов.
Не менее впечатляет перечень носителей профессиональной тайны (Berufsgecheimnisträger), которым германским уголовно-процессуальным законом также предоставлено право отказаться от дачи показаний в отношении сведений, такую тайну составляющих.
В перечне § 52 StPOdBRD, посвященного свидетельскому иммунитету Berufsgecheimnisträger, указаны помимо известных и российскому закону священнослужителей, адвокатов и членов законодательных собраний (назовем их всех условно «депутатами») представители профессий, сам перечень которых свидетельствует и о достаточно высоком уровне рыночного развития экономики Германии, и об уровне совершенства ее правовой системы. Полагаем, что в содержании рассматриваемого параграфа отразился опыт применения самих правил о свидетельском иммунитете в уголовном процессе Германии.
Каждый пункт этого большого перечня заслуживает отдельного внимания. Для начала обозначим весьма заметную разницу в самой законодательной формулировке свидетельского иммунитета, допущенную германским законодателем в отношении всех его обладателей независимо от основания. Термин Zeugnisverweigerungrecht, буквально переводящийся на русский язык как «право отказаться свидетельствовать», озна- чает меру возможного поведения, которую избирает сам правообладатель и от которой, судя по всему, может по собственному же выбору отказаться. Российская формулировка «не может быть допрошен» германскому уголовному процессу неизвестна. В прежних публикациях нами была сформулирована идея о существенно бóльшем оградительном потенциале именно российской законодательной формулы, делающей бесполезными попытки оказать давление на потенциального свидетеля [4, с. 126– 127]. Однако это лишь гипотеза, побуждающая к изучению реальной практики использования свидетельского иммунитета обоих государств.
Священнослужитель вправе отказаться свидетельствовать об обстоятельствах, которые «стали известны или были доверены» (erkannt oder bedauert wird) ему как «духовному наставнику» (als Seelsorger, Seel – душа, дух, Sorger от sorgen – заботиться, хлопотать). Никакой привязки к конкретному церковному ритуалу в германском законе нет. Правом священника любой официально зарегистрированной конфессии отказаться свидетельствовать об обстоятельствах любого доверительного общения с верующими защищено все это общение. Такой подход видится вполне оправданным для любого многоконфессионального государства.
Свидетельским иммунитетом наделены «депутаты» (по германскому закону – Mitglieder), то есть члены Бундестага – федерального однопалатного парламента, Федерального собрания – специального конституционного органа, собирающегося раз в пять лет для выборов Федерального президента ФРГ, а также члены Европарламента от ФРГ. Правом отказаться свидетельствовать наделены и члены законодательных собраний субъектов Федерации (земель) – Ландтагов, что тоже довольно примечательно само по себе. Но еще более впечатляет то, о чем именно германские «депутаты» вправе отказаться свидетельствовать перед правоохранительными органами и судом – не просто об обстоятельствах реализации ими любых своих полномочий, как это обозначено в российском УПК, они вправе не разглашать сведения о людях (Personen), которые сообщили какие-то факты (Tatsachen) «депутатам» в этом их качестве (in diesem Eigenschaft), о лицах, которым «депутаты» в этом своем качестве какие-то факты сообщили, а также о самих этих фактах (über diese Tatsachen selbst). Таким образом, свидетельским иммунитетом защищаются не сами «депутаты» и их парламентская деятельность как таковая, а конфиденциальность их общения с избирателями и деловое общение с другими людьми по поводу реализации воли избирателей. Во всяком случае, из текста германского уголовно-процессуального закона вытекает именно это.
В специальном пункте, расположенном вслед за пунктом о священнослужителях, но до пункта о «депутатах», перечислены представители других профессий, которые связаны доверительными отношениями с людьми и необходимостью хранить их тайны. В этом большом перечне помимо адвокатов указаны нотариусы, аудиторы, налоговые консультанты, патентные поверенные, врачи (отдельно – зубные врачи), аптекари, психотерапевты (отдельно – юношеские психотерапевты) и т. д. Внимание законодателя к представителям этих профессий в контексте свидетельского иммунитета, а особенно внимание к охране доверительно сообщенных им сведений говорит о развитости соответствующих социальных институтов экономики в целом и системы налогообложения, медицинского обслуживания, в том числе стоматологии, фармакологии и психотерапии, охраны авторских прав и т. д. Отдельные, вводимые по мере надобности, пункты анализируемого параграфа посвящены аналогичному праву консультантов по вопросам беременности и наркозависимости. Специальный § 53а StPOdBRD, появившийся позднее основного параграфа и исключительно в связи с ним, устанавливает право отказаться от дачи свидетельских показаний так называемых mitwirkenden Personen (буквально – содействующих лиц) – профессионалов, перечисленных в § 53, а точнее – под номерами с 1 по 4, то есть всех, кроме представителей масс-медиа, названных под номером 5. Обладателями сведений, о которых перечисленные «сотрудники» могут отказаться свидетельствовать наравне с самими профессионалами, они становятся в силу собственного участия в этой профессиональной деятельности «в рамках» (im Rahmen): а) договорных обязательств, либо б) выполнения функций помощника, либо в) предварительной профессиональной подготовки. Такое решение законодателя видится оптимальным для устранения неизбежной правовой двусмысленности, возникающей при нормативно-правовом определении статуса помощника любого из профессиональных участников уголовного процесса (например, адвоката или судьи), обладающих свидетельским иммунитетом.
Как уже отмечалось, среди лиц, имеющих право отказаться свидетельствовать по мотивам профессиональной тайны, в германском законе названы журналисты и иные представители средств массовой информации в части авторства или редакционной работы в отношении материалов, связанных с «информированием или формированием мнения» (der Unterrichtung oder Meinungsbildung). Такое отношение к средствам массовой информации в правовом государстве, на наш взгляд, в специальных комментариях не нуждается.
Все сказанное свидетельствует о постоянном совершенствовании правовой системы ФРГ и приспособлении ее к реальным потребностям германского общества на данном этапе его развития.
Несомненный компаративистский интерес представляют исключения из общих правил о свидетельском иммунитете носителей профессиональной тайны и особенности их формулировки в германском уголовно-процессуальном законе. Большинство профессионалов, за исключением священников и условных «депутатов», во-первых, не имеют права отказаться свидетельствовать в случаях освобождения их от обязанности хранить профессиональную тайну; во-вторых, не имеют такого права в случаях раскрытия и расследования прямо названных в законе групп преступлений. Таких групп три: 1) преступления против мира и внешней безопасности Германии, демократического правового государства; 2) преступления против полового самоопределения (в § 53 StPOd-BRD названы конкретные статьи уголовного закона, их предусматривающие); 3) отмывание преступных доходов (Geldwäsche) – также с указанием конкретных статей уголовного закона.
Важно отметить, что специальный § 54 StPOdBRD содержит указание на особые правила допроса отдельных категорий официальных лиц, которые в число обладателей свидетельского иммунитета не включены. В этом перечне судьи (Richtern) и иные прямо не названные государственные служащие (Angechörige des öffentlichen Dienstens – представители публичной службы), обладающие некими сведениями в связи со своей публичной деятельностью. Отдельно это же сказано о Федеральном президенте ФРГ, который в специально оговоренных в законе случаях вправе отказаться от дачи показаний. Здесь же говорится и об особых правилах допроса уже упоминавшихся условных «депутатов», пожелавших дать свидетельские показания.
В бланкетных нормах германский уголовно-процессуальный закон указывает на особый порядок допроса (буквально – «получения высказываний» – Aussagegenehmung) отдельных категорий лиц, не распространяя на часть из них право отказаться от дачи показаний. В сравнительноправовом плане здесь самое интересное обстоятельство – отсутствие свидетельского иммунитета у судей, а также специальное указание закона на особые правила допроса лиц, которые уже не обладают соответствующим официальным статусом, но допрашиваются об обстоятельствах, ставших им известными ранее – при исполнении служебных обязанностей.
Перечень очевидных законодательных находок в определении и гарантировании свидетельского иммунитета разных категорий лиц в
StPOdBRD позволяет выработать оптимальные пути решения многих аналогичных правовых проблем в национальных системах уголовного процесса других государств. Межгосударственный обмен опытом по вопросам свидетельского иммунитета, на наш взгляд, не ограничивается не то что проблемами собственно процессуального статуса свидетеля, но даже и сферой уголовного судопроизводства. Уровень совершенства решения проблемы свидетельского иммунитета – это еще и индикатор развития правовой системы конкретного государства.
Список литературы Свидетельский иммунитет в уголовном процессе как индикатор зрелости правовой системы
- Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе: учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1973. 160 с.
- Карнеева Л.М. Свидетельский иммунитет и его значение // Основания и порядок реализации уголовной ответственности: межвуз. сб. науч. ст. Куйбышев: Куйбышевский ун-т, 1989. С. 111-115.
- Тарасов А.А. Уголовно-процессуальная компаративистика и проблема точности перевода юридических терминов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 11. С. 87-91.
- EDN: XGSIFJ
- Тарасов А.А. Очевидное и не очевидное в свидетельском иммунитете (опыт сравнительно-правового анализа) // Правовая парадигма. 2021. Т. 20, № 1. С. 124-129.
- EDN: EFEBRJ