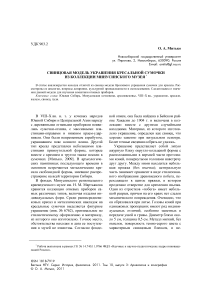Свинцовая модель украшения кресальной сумочки из коллекции Минусинского музея
Автор: Митько Олег Андреевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология Евразии
Статья в выпуске: 3 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется находка отлитой из свинца модели бронзового украшения сумочки для кресала. Рассмотрены ее аналогии, вопросы датировки, культурной принадлежности и использования. Сделан вывод о значении данной модели для изучения семантики огневых приборов.
Южная сибирь, минусинская котловина, средневековье, viii-x вв., украшение, кресало, железо, свинец, пуля, мinousinsk hollow
Короткий адрес: https://sciup.org/14737444
IDR: 14737444 | УДК: 903.2
Текст научной статьи Свинцовая модель украшения кресальной сумочки из коллекции Минусинского музея
В VIII–X вв . н . э . у кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии наряду с деревянными огневыми приборами появи лись сумочки - огнива , с массивными пла стинами - оправами и нижним краем - удар ником . Они были непременным атрибутом , украшавшим пояс конного воина . Другой тип кресал представлен небольшими пла стинами прямоугольной формы , которые вместе с кремнем и трутом также носили в сумочках [ Митько , 2009]. В археологиче ских памятниках последующего времени в основном встречаются металлические кре сала скобовидной формы , имевшие распро странение на всей территории Сибири .
В фондах Минусинского регионального краеведческого музее им. Н. М. Мартьянова хранится коллекция огневых приборов самых различных типов, включая изделия индивидуальных форм. Среди раннесредневековых кресал и металлических накладок на кресальные сумочки выделяется фигурное украшение (инв. № 6762), оригинальное по стилистическому оформлению и материалу, из которого оно изготовлено. Точное место, обстоятельства находки и дата ее поступления в музей не известны. Согласно фондо- вой описи, она была найдена в Бейском районе Хакасии до 1904 г. и включена в коллекцию вместе с другими случайными находками. Материал, из которого изготовлено украшение, определен как свинец, что хорошо заметно при визуальном осмотре. Более точные сведения собрать не удалось.
Украшение представляет собой литую ажурную бляху округло-кольцевой формы с расположенными в верхней части протомами коней, повернутыми головами навстречу друг другу. Между ними находится небольшая пряжка (без язычка); центральную часть занимает орнамент в виде стилизованного изображения древовидного побега, переходящего в щиток пряжки, в котором проделано отверстие для крепления язычка. Один из отростков «побега» имеет небольшой разрыв, причем на его краях нет следов механического повреждения. Очевидно, что он образовался при литье. Головы коней при одинаковых пропорциях имеют ряд индивидуальных отличий, особенно заметных в передаче ушей и гривы. Диаметр бляхи около 5 см, толщина 0,5 см. Металл мягкий, без окислов, поверхность темно-серого цвета с характерным свинцовым блеском, в не- скольких местах прослеживаются очень слабые следы желтой краски. Сохранность удовлетворительная (см. рисунок).
Украшение было отлито в односторон нюю форму , лицевая сторона рельефная , обратная – плоская , нижний край не имеет характерного для железных кресал утолще ния . Поэтому его принадлежность к модели реальной бронзовой бляхи , а не железного кресала , не вызывает сомнений . Точные аналогии среди накладок на кресальные сумочки не выявлены , но близость в оформ лении отдельных элементов декора про слеживается с железными кресалами из минусинской коллекции . У кресал , обнару женных у с . Бейское ( инв . № 6974) и с . Верх - Коя ( инв . № 7124), центральная часть оформлена в виде такого же расти тельного побега , но концы дуг заканчивают ся не протомами коней , а завиты в сторону пряжек . Последние , в свою очередь , изго товлены отдельно и приклепаны к кресалам . Кресало , обнаруженное у с . Курганчиково
( инв . № 7126), ковалось целиком вместе с пряжкой , в центральной части вместо расти тельного побега присутствует горизонталь ная прорезь , но окончание одной из дуг ( вторая обломана ) представляет собой сти лизованное изображение головы коня . Оче видно , в отличие от бронзового литья , при кузнечной ковке сложно было передать зооморфный образ во всех деталях и осо бенностях , и на железном изделии , предна значенном для повседневного употребления , он передан в стилизованном виде .
Композиционно изображение голов ко ней на свинцовой модели ближе всего к ге ральдическому стилю . Их передача в техни ке плоской скульптуры характерна для таштыкских подвесок в виде парных конь ков [ Киселев , 1951. С . 440–441; Кызласов , 1960. С . 89–92, рис . 32; Вадецкая , 1999. С . 107]. Ареал распространения коньковых подвесок , связанных с самыми различными ритуальными предметами , включает в себя территорию от Дальнего Востока до Скан -

Свинцовая модель украшения кресальной сумочки
динавии , а семантика отличается сложно стью и многообразием [ Король , 2007; Gia-nadda, 2008. S. 205]. Согласно типологии орнаментов , встречающихся на изделиях с территории Минусинской котловины , орна мент свинцовой модели украшения на кре - сальную сумочку относится к типу III ( зоо морфный ), подтип 2 ( копытные животные ) [ Кызласов , Король , 1990. С . 86]. Поворот головы животных навстречу друг другу позволяет выделить данный орнамент в от дельную группу В .
Известно , что со свинцом человек позна комился давно . Получали его путем сравни тельно легкой операции , состоящей из про стого прокаливания руды . Изделия из этого материала встречаются в археологических памятниках Ближнего Востока , начиная с эпохи энеолита . Минусинская котловина являлась одной из самых крупных сибир ских металлургических провинций древно сти , с богатыми традициями литейного про изводствах . На ее территории расположено и несколько месторождений свинцово - цин ковых руд , а севернее Красноярска находит ся крупнейшее в мире Горевское месторож дение свинца . Поэтому , при дефиците олова , присутствие этого металла в минусинских бронзовых сплавах вполне объяснимо [ Сун - чугашев , 1975. С . 135–139, 144]. Однако , насколько нам известно , предметы из свин ца в археологических комплексах эпохи па - леометалла и средневековья на территории Южной Сибири не встречались . В то же время использование свинцовых моделей , отлитых в бронзовых литейных формах , от мечено в некоторых районах Англии ( Харти , Саутелле и Нью - Стрит ) [ Гришин , 1980. С . 115]. В Южной Сибири лишь в позднем средневековье из свинца начали отливать боезапас [ Скобелев , 2006; Скобелев , Чури ков , 2009. С . 267]. Поэтому , вероятнее всего , свинцовую модель можно отнести к « лож ной древности » как изготовленную не ранее этого времени . Остатки желтой краски на лицевой поверхности позволяют сузить да тировку до второй половины XIX – начала XX в .
Мы не можем дать прямого ответа на вопрос, с какой целью была отлита свинцовая модель. Возможно, копию древней вещи сделал исключительно в познавательных целях человек образованный и рационально мыслящий. Волею судеб таких людей в то время в Сибири оказалось много. Однако нельзя исключить и прямо противоположную версию: свинцовая модель могла быть изготовлена как ритуальный предмет. Известно, что самым подходящим материалом для такого рода вещей были олово и свинец. У киргизов изображение из свинца или олова, носившее название кут, было связано с культом домашнего очага. Кут попадал через дымоходное отверстие в очаг – коломно. Считалось, что если кут напоминал изображение человека, у его обладателя будет много детей, если напоминал животное – много скота [Баялиева, 1972. С. 45–46]. У бурятов во время обряда принесения жертвы огню обращались к нему как к семейно-родовому хранителю с просьбой даровать чадородие. После завершения моления гадали: выливали в воду раскаленное олово или свинец и по тому, какую форму оно приобретало, узнавали, родится ребенок или нет, много ли детей будет, много ли скота ожидать в будущем [Галданова, 1987. С. 43]. Для качинцев отлитая из свинца пуля могла служить оберегом [Митько, 2002]. В хакасской народной медицине ребенка при испуге лечили расплавленным свинцом (позднее замененным воском): расплавленный свинец лили в чашу с холодной водой, которую держали над родничком ребенка; свинец в холодной воде застывал и приобретал различные формы – животных, птиц, человека и т. д. По этим изображениям узнавали, чего испугался ребенок. Процедуру производили три раза, и три раза произносили заклинание. Если это не помогало, то свинец лили до девяти раз [Бутанаев, 1986. С. 110]. У калмыков посредством свинца лечили особые знахари – медглчи, отливавшие причину болезни [Бокаева, 2002. С. 90]. Железное кресало также использовалось для магического лечения. У хакасов лечением от «летучего огня» (хамчо) занимался специально приглашенный дядя по матери (тайы). Он высекал огнивом искры над лицом больного и приговаривал: «Став летучим огнем, не возгорайся, став искрой, не рассыпайся! Я кремнем высекаю сорок искр. Эти огненные искры притяни!» [Бутанаев, 1986. С. 106].
Возможны и другие версии, связанные с использованием и причинами, побудившими изготовить свинцовую модель средневекового украшения кресальной сумочки. Однако в любом случае можно совершенно твердо утверждать одно: хранящаяся в кол- лекции Минусинского музея свинцовая модель является копией не дошедшего до нас реального предмета с зооморфными изображениями, которые, на наш взгляд, отражают очень архаичные индоевропейские и древнетюркские представления о связи огневого прибора с конем.
LEAD MODEL OF THE ORNAMENT ON A HANDBAG FOR STEEL FROM THE COLLECTION OF THE MUSEUM IN MINOUSINSK