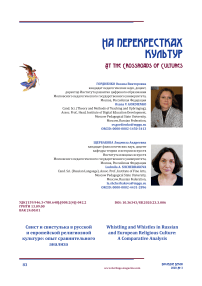Свист и свистулька в русской и европейской религиозной культуре: опыт сравнительного анализа
Автор: Гордиенко Оксана Викторовна, Щербакова Людмила Андреевна
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: На перекрестках культур
Статья в выпуске: 3 (23), 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - анализ феномена свиста и традиции изготовления и использования свистульки в различных религиозных культах в России и Европе. Отбор материала производился на основании изучения фактов, собранных этнографами, музейных и выставочных каталогов, систематизации данных личной коллекции, а также при посещении авторами публикации российских и европейских центров изготовления свистулек. В работе исследованы данные различных словарей, корпус религиозных текстов, в том числе произведено сравнение разных переводов фрагментов, посвященных свисту. Культурологический и лингвистический анализ позволяют утверждать, что использование свистульки в ходе современных религиозных праздников, как правило, свидетельствует о наложении данной религиозной традиции на древнюю языческую, в том числе на традицию поминовения усопших; дополнительным основанием для распространения использования свистулек в ходе религиозных действ является наличие центра гончарного промысла в данной локации.
Свист, свистулька, религиозные тексты, религиозное действо, народные верования, священные тексты, праздник, суеверия
Короткий адрес: https://sciup.org/170175020
IDR: 170175020 | УДК: [159.946.3+780.648]:[008:2(4)]-042.2 | DOI: 10.36343/SB.2020.23.3.006
Текст научной статьи Свист и свистулька в русской и европейской религиозной культуре: опыт сравнительного анализа
Данное исследование представляет собой опыт сравнительного анализа использования свиста и свистульки в русской и европейской религиозной культуре.
Актуальность и значимость обозначенной темы определяются необходимостью актуализации и сохранения культурного наследия народов России и Европы, укрепления живой связи с многовековыми традициями, являющимися чрезвычайно важными в условиях глобализации, нивелирующей культурные особенности, свойственные этническим сообществам. Следует заметить, что в настоящее время по всему миру происходит активный процесс исчезновения центров гончарного мастерства, в которых производились музыкальные глиняные игрушки; в связи с этим утрачиваются оригинальные традиции и обряды их использования.
Об отношении к свисту в народной культуре имеются некоторые исследования. В энциклопедии «Славянская мифология» [27] есть специальная статья, посвященная свисту; довольно подробно отношение к свисту у славян раскрывается в статье А. А. Плотниковой «О символике свиста» из сборника «Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян» [22]; существуют и научные исследования свиста у различных народов России, например, работа И. В. Пчеловодовой «Феномен свиста в календарной традиции удмуртов» [24]; отдельные описания примет, обрядов, поверий, связанных со свистом, можно найти в изысканиях, непосредственно не посвященных этой проблематике, но затрагивающих ее, например, в диссертации О. В. Санниковой «Польская мифологическая лексика в этнолингвистическом и сравнительно-историческом освещении» [25], в книгах «Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе» Н. Я. Никифоровского [19], «Мифы славян» А. В. Гура [13], «Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюжетика и образ мира» Т. А. Агапкиной [1], в статье М. М. Валенцовой «Способы магического воздействия в традиционной культуре славян: дунуть, плюнуть и сказать» [8] и др.
Между тем исследование свиста и свистульки в религиозном аспекте никем еще не производилось, хотя разрозненных фактов использования свиста и свистулек в различных церемониях, имеющих религиозную направленность, существует достаточно много.
Данная статья ставит своей целью анализ феномена свиста, а также традиций изготовления и использования музыкальной глиняной игрушки в религиозно-обрядовых практиках народов России и Европы.
Основной базой исследования послужили этнографические факты, каталоги музеев и выставок, канонические и апокрифические религиозные тексты, а также материалы различных словарей.
Методология исследования включает компаративный и каузальный анализ религиозного контекста свиста и использования свистульки в народной традиции, обобщение отдельных этнографических фактов, лингвистический анализ религиозных текстов и языковых элементов, имеющих отношение к свисту, наблюдение над современным бытованием свистульки как элемента народной и религиозной культуры на территории России и Европы.
Научное исследование данной проблемы позволит расширить представления о культурных связях народов Западной и Восточной Европы с древних времен, дополнить уже имеющиеся материалы в области так называемой «народной религии» как части исторической антропологии и религиоведения.
Рассмотрим отношение к свисту в славянских и европейских народных культурах и религиозных традициях.
В традиционной православной культуре свист воспринимается как нарушение покоя, обращение к демоническим силам. А. А. Плотникова в статье «О символике свиста» замечает: «…свист – явление, неизменно связываемое в народных представлениях с призывом зла, лиха, беды, нечистой силы… Свист входит в совокупность „неправильных“, „нечести-вых“ действий, составляющих левую часть оппозиций языческий – христианский, грешный – праведный» [22, c. 295].
В русских апокрифических сказаниях зафиксировано, что свист является грехом, отвращающим от дома лик Богородицы [35, c. 400; 14, c. 277]. Аналогичные верования были у поляков, считавших, что, когда женщина свистит, «…семь костелов сотрясаются, а Богоматерь плачет» [22, c. 295]. Так же считали и румыны: «нехорошо девушке свистеть, потому что Богоматерь будет плакать» [22, c. 296]. В то же время в народной традиции Святая Евдокия получила прозвище «свистунья», так как в начале марта (именины ее приходятся на 1 марта) начинают дуть весенние ветры. В этот день крестьяне говорили: «Приехала свистунья» [2; 29].
Особенно у славян запрещалось свистеть в Страстную пятницу, так как, по одному из суеверий, черти от радости свистели, когда Христос умер [29, c. 176], а про засвистевшего в этот день говорили, что его черти унесут в ад. Еще одно объяснение свисту как греху обнаруживается в апокрифе, повествующем о том, что пока кузнец ковал гвозди для распятия Иисуса Христа, одна из наблюдавших за его работой женщин насвистывала [9].
Священнослужители считали свист одним из признаков языческих культов. Постановлением Владимирского собора 1274 г. осуждаются пережитки языческого прошлого: «Въ божествьныя праздьникы позоры н э какы бесовьскыя творим, съ свистаниемъ, и съ кли-чемь, и въплемь съзывающе н э кы скар э дныя пьяница, и бьющеся дрькол э емъ до самыя смерти, и възимающе от убива э мыхъ порты. На оукоризноу се бываеть Божиимъ праздьни-комъ и на досажение Божиимъ церквамъ» [10, с. 319].
Свист, как и все резкое, страстное, по представлениям христиан, противоречит идеалу христианского благочестия. В Библии свист чаще всего означает выражение презрения и насмешки, например: «И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется, и свистнет, и скажет: «за что Господь поступил так с сею землею и с сим храмом?» (3 Цар. 9:8) [5, c. 372]; «И сделаю город сей ужасом и посмеянием; каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его» (Иер. 19:8) [5, c. 756].
Вероятно, отрицательное отношение к свисту как явлению породило переводческую коллизию, коснувшуюся двух фраз Ветхого Завета: «Я дам им знак и соберу их, потому что Я искупил их; они будут так же многочисленны, как прежде» (Зах. 10:8) [5, с. 919], «И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли, – и вот, он легко и скоро придет» (Ис. 5:26) [5, c. 684]. Интерес представляет тот факт, что в оригинале Масо-ры, включающей текст еврейского Ветхого Завета, в обеих этих фразах на месте сочетания «дам знак» находится глагол с корнем « ׂשרק », означающим «свистеть». В переводах Библии, основывающихся на масоретском тексте, используются слова именно с этим корнем (например, перевод Макария Глухарева, 1860–е гг. [20]; перевод Библии под ред. Кулаковых, выполненньш служителями Заокскои духов-нои академии и Библеиско-богословского института святого Апостола Андрея, 2015 г. [3]; Біблія. Переклад Івана Хоменко, 1963 г. [36]; Новьш русскии перевод, выполненные Международным Библеиским Обществом, 2006 г. [6] и др.). Есть также переводы, где в однои фразе используются слова с корнем «свист», а в другои - иные слова с корнями, имеющими значение призыва («давать знак», «дать сигнал», «издать звук», «скликать», «возвестить»). Традиция переводов, замещающих «свист» словами со значением призыва, отчасти основывается на «Септуагинте» («Переводе семидесяти толковников») - корпусе древнегреческих переводов Священного Писания, созданном в Александрии в III–I вв. до н. э., где в цитате из Захарии исконное древнеевреи-ское слово « ֶאְׁשְרָק֥ה » со значением «свистну» заменено на древнегреческое «σημανῶ» со значением «дам знамение, покажу, предвозвещу, дам уразуметь».
Судя по всему, для греков слово «свист» имело отрицательный коннотат, а потому было заменено; при этом разрушенной оказалась важная для исконного текста метафора, часто упоминаемая толкователями, - метафора о пастыре, свистом собирающем своих овец. Вот как это объясняет Иероним Стридонский:
«…свистомъ Своимъ Я соберу ихъ и научу ихъ тому, что Я – пастырь. Ибо Я искупилъ ихъ и освободилъ ихъ отъ плэна, простерши Свою руку» [33, c. 121].
В цитате из Исаии в Септуагинте сохранилось слово со значением «свистеть», но некоторые переводчики с греческого предпочли осуществить в этом случае такую же замену, какая была произведена в цитате из Захарии. Примечательным представляется тот факт, что подобная замена присутствует в Синодальных переводах разных лет, хотя в Елизаветинской Библии (в переводе с греческого на церковнославянский язык, изданном в 1751 г., более чем за столетие до Синодального перевода) слово со значением свиста сохранено: « Воздви1гнетъ ќбw знaменіе во kзhцэхъ сyщихъ далeче и3 позви1ждетъ и5мъ t конє1цъ земли2, и3 сE, ск0рw лeгцэ грzдyтъ » [4] (глагол « позви1ждетъ » означает «свистнет»).
Интересное замечание делает в своем токовании данной фразы Иоанн Златоуст, который объясняет использование слова «συριεῖ» (букв. «свистнет», слав. «позвиждет») в Книге Пророка Исаии в Септуагинте: «Не удивляйся, что он, говоря о Боге, употребляет такие чувственные выражения; он приспособляет слова к неразумию слушателей (курсив наш. – О. Г., Л. Щ. ), желая показать всем этим только то, что это и для Бога легко, и непременно сбудется» [26], невольно подтверждая, что коннотация слова «свист» сниженная.
Имеющиеся данные показывают, что у русских к свисту также было по большей части негативное отношение. Так, в русском языке слова с корнем «свист» часто носят просторечный характер и связаны с обозначением отрицательных человеческих качеств: свистулями (Архангельская и Вологодская губернии [30, с. 301]), свистами и свистёл-ками (Брянская область [30, c. 298]) называли женщин легкого поведения; свистахами (Вятская губерния [30, с. 298]) — непоседливых людей; свистунами (Архангельская губерния [30, с. 301]) — обманщиков; свистя-гамии и свистушами (Владимирская область [30, c. 302]), свистодырками (Ярославская губерния) — сплетниц; свистоплясами (Вятская губерния [30, с. 300]) — людей, которые не любят работать; свистушками (Забайкалье и Олонецкая губерния [30, с. 302]) — непоседливых девушек; свистками (Тверская губерния [30, c. 299]) — насмешников; свистелями (Олонецкая губерния [30, c. 298]), свистула-ями (Брянская область [30, c. 300]), свищами (на Севере [30, c. 304]) — пустых людей, тунеядцев; свистягами, свистелями, свистунами и свистенями (Вятская и Архангельская губернии [30, c. 302]) — бездельников, которые все имущество промотали (просвистались) и которым осталось только свистеть в кулак или ключ (по В. И. Далю, свистать в кула(чо) к — сидеть без гроша; он также фиксирует пословицу: «Свищи в ключ, у кого замок на пустом амбаре») и есть свистунью или свистуху (по В. И. Далю — жидкая овсянка).
У мусульман свист тоже считается запретным делом (харам). Аллах Всевышний, осуждая молитву многобожников, сказал: «И молитва их у дома была только свистом и хлопанием в ладоши» [32, c. 148].
В иудаизме свист в основном воспринимается негативно, как символ осуждения, но в священных книгах есть и цитаты, показывающие свист как призыв (см. выше цитаты из Книг Пророков Захарии и Исаии).
В иных религиях отношение к свисту не столь отрицательное: древними даосскими монахами свист практиковался как одно из почетных занятий, с его помощью они управляли природными явлениями и разговаривали с духами; колумбийские шаманы, дуя в горлышко бутылки («свистящие бутылки») с частотой до 24 тысяч колебаний в секунду, вводили слушателей в состояние транса, в котором те могли говорить с душами умерших.
Необходимо отдельно оговорить свист и использование свистулек в праздники, сопряженные с религиозными событиями. Вероятнее всего, это связано с особым отношением к гончарам. В Книге Пророка Иеремии есть фрагмент, в котором Создатель предстает в образе гончара: «Слово, которое было к Иеремии от Господа: Встань и сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои. И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечни- ку вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: Не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев» (Иер. 18:1–6) [5, c. 755]. В этом смысле свистулька как побочный продукт деятельности гончаров, изготавливаемый чаще всего в рекламных целях для детей покупателей, тоже приобретает особый смысл. И ее использование не запрещалось церковью даже в религиозные праздники.
Стоит также отметить, что использование свистулек характерно для более ранних языческих традиций. Так, древний обряд, связанный со свистом, проводился с незапамятных времен в российской Вятке (бывшем Хлы-нове) в четвертую субботу после Пасхи. Назывался этот праздник «Свистопляска» [17]; (более позднее название — «Свистунья» [28, с. 378]). По одним поверьям, это был праздник весны, которую встречали веселым свистом [21, c. 165], по другим — торжество смекалки хлыновцев (когда к городу подошли кочевники, жители подкрались к становищу неприятеля и при помощи глиняных свистулек подняли жуткий свист, напугавший врагов, в страхе бежавших) [21, c. 165]. Существует и третья версия возникновения праздника: это тризна по убитым в ходе «хлыновского побоища» (XIV в.) по ошибке устюжанам, которые пришли на помощь хлыновцам, но были приняты в темноте за врагов и перебиты [15, c. 134] [14, c. 277].
К сожалению, точных данных о появлении и характере праздника до конца ХVIII–ХIХ в. нет. О нем писали Н. Рычков (1770–1772), А. Вештомов (1807), Н. Хитрово (1811), В. Баженов (1817), А. Мартынов (1838), С. Сычугов (1850), В. Лебедев (1989) и др. Описания во многом расходятся, но, как правило, в них присутствуют две части: первая, связанная с проведением панихиды по умершим, и вторая, повествующая о народных гуляниях, во время которых катают с гор глиняные шары и свистят в глиняные свистульки.
И. М. Снегирев в книге «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» вятскую Свистопляску описывал следующим образом: «Во время Свистопляски, около надгробной часовни, по праздничному обычаю, расставляются шатры, продаются особенные, делаемые к этому дню и случаю глиняные лошадки, свистки с погремушками, шарики и разные лакомства. Там тогда ребятишки играют в куклы, беспрестанно свистят, приплясывая или становясь по обе стороны рва, как бы в наступательном положении, бросают друг в друга глиняными шариками, будто в напоминание воинской ошибки предков; свист же есть простонародное выражение промаха. Между тем вплоть до вечера продолжается гуляние вятчан; там поют песни под звуки скрипок и балалаек» [31, c. 63–64].
В книге В. Лебедева «Вятские записки» описывается Свистунья конца ХIХ – начала ХХ в.: «…когда попадаешь на площадь и идешь среди свистящей толпы, кажется, что ходишь по воздуху. У всех смеющиеся и какие-то дерзкие лица. Идущие люди бережно держат перед лицом глиняную небольшую игрушку, ценою в три или пять копеек, изображающую двухголового зверя или барана с золотыми пятнами на боках. В хвост этому барану и свистят. Люди, идущие приложив к лицам этих разноцветных зверей, похожи все вместе на громадный пестрый маскарад» [18, c. 53].
Д. К. Зеленин обращает внимание на то, что не только в Вятке, но и в других русских областях игрушки-свистульки выступали частым атрибутом поминальных обрядов-праздников [15, c. 134–135, 139]; это, возможно, объясняется поверьем о том, что души усопших издают звуки, подобные свисту, эти же звуки, якобы, способны отпугивать их самих [23, c. 241].
Таким образом, «веселые праздники» [11, c. 30], которые сопровождались шумом и свистом, имели характер отпугивания злых сил и были жизнеутверждающим феноменом.
Праздники с использованием шумопроизводящих инструментов и свистулек не были особенностью только русских. Такие же обычаи были зафиксированы вплоть до 1970-х гг., например, у французов. Они были связаны с обрядами зимнего солнцестояния, когда, по поверьям, считалось, что злые духи временно завладевают землей, поэтому необходимо их изгнание шумом и свистом.
В Страстную пятницу в Бургундии дети с шумелками, свистульками и погремушками отправлялись на так называемую «Прогулку по тьме» [42] (обряд, призванный изгнать злые силы).
В Андалусии (Испания) свистульки нашли свое место в католическом богослужении: на празднике явления головы Пресвятой Богородицы используются специально к этому дню сделанные свистульки (Фото 1). В г. Алькой (Испания) шествие со свистульками даже имеет собственное название – «D’els xiulitets» («свистки» на каталонском языке).
Глиняные свистульки, имитирующие пение птиц (как правило, «водяные соловьи») иногда использовались непосредственно во время религиозных служб – они звучали в церквях во время мессы, вокруг вертепов и в рождественских шествиях. Например, в Испа-

Фото 1. Свистульки из Андалусии (Испания), изготовленные к празднику явления головы Пресвятой Богородицы (фото авторов)
нии «cantiret» (свист из водяных свистулек) сопровождал танцы и пение, которые проходили перед рождественским вертепом [41, p. 17]. Иногда свистульки могут как атрибуты присутствовать в самом вертепе: например, в 2019 г. в Брюсселе на выставке рождественских вертепов в Соборе Святых Михаила и Гу-дулы вертепе из Гватемалы нами были обнаружены две свистульки в форме птиц.
В Каталонии (Испания) проводится несколько религиозных шествий, во время которых используются свистульки. На Страстной неделе рано утром проходит процессия Xiulitets (шествие со свистульками). В четверг, следующий за Днём Святой Троицы, проходит процессия Corpus Christi (крестный ход в честь почитания Тела и Крови Христа, введенный в XIII в.), после которой проводится народный карнавал, сопровождаемый звуками свистулек.
На Майорке (Испания) тоже существовал целый ряд традиций, связанных с использованием свистулек во время богослужения. Например, в процессе «Cant de la Sibilla» (литургическая драма и Григорианские песнопения, тексты которых составляют пророчества, описывающие Апокалипсис) использовались свистульки-соловьи [39]; также существовал обычай «la Missa del Gall» (Петушиная месса): в полночь или незадолго до Рождества во многих церквях из клеток, находившихся прямо в здании церкви, выпускали птиц, чтобы они возвестили о рождении Христа. Со временем живых птиц заменили глиняные свистульки.
Вместо живых птичек использовали свистульки и в Провансе (Франция): описывая один из старейших фестивалей региона, так называемый «Du Roitelet» (птица-королек), Л. Бодуэн в своей книге об истории коммуны Сен-сюр-Мер указывал, что накануне Рождества молодые люди ловили королька, привязывали его к концу шеста и несли к полночной мессе. Во время службы птичку торжественно передавали священнику, который давал ей свободу; освобожденная счастливая пташка свободно летала под высокими сводами приходской церкви [37]. Постепенно этот обычай исчез, но как его отголосок осталась традиция свистеть в небольшие глиняные свистульки в виде птичек во время мессы, а также включать в органную музыку звуки соловьиных трелей.
На Мальте еще в 1930–1960-е гг. пение рождественских колядок сопровождалось свистом из водяных свистулек. Есть свидетельства такого использования и в Словакии.
В Чехии во время полночной рождественской мессы, когда священник объявлял: «Христос родился», в церкви раздавались радостные звуки, имитирующие пение птиц. Использовались «slavíček» (свистулька в виде соловья) и «zezulka» (большая свистулька) [43, p. 81].
Большой интерес представляют фигурки со свистками в форме святых, которые до сих пор изготавливают в г. Кальтарджероне на Сицилии (Италия) [12, c. 50]. Это образы Христа, Богоматери и особо почитаемых святых (апостола Фомы, Франциска Ассизского, Георгия, Екатерины, Розалии и др.) с вмазанными сзади свистками (Фото 2).
Интересные свидетельства использования свистулек дают литературные материа-

Фото 2. Фигурки со свистками в виде святых, изготавливаемые в г. Кальтарджероне на Сицилии (Италия) (фото авторов)
лы паломнических поездок. Многие паломничества, связанные со свистульками, считаются одними из самых древних: паломничество к Деве Марии (la Romería de la Virgen de la Cabeza) в Андухаре (Испания), паломничество в аббатство Девы Марии (Máriagyűdi) в Венгрии и т. д.
Свистульки часто привозили из паломничеств к святым местам в подарок детям или как память о самой поездке. Например, для ежегодного паломничества к Святому Бруно в церковь Эсельстат («остановка осла») рядом с г. Кверфурт (Германия) покупали забавную глазурованную свистульку в виде Святого Бруно верхом на осле; вместо хвоста у осла были две свистульки: свисток, расположенный справа, символизировал путь божественного духа, а свисток-пустышка слева – путь Сатаны (если в него подуть, в лицо свистящему из отверстия в спине святого вылетала насыпанная туда ранее мука или сажа). Эти свистки-пустышки называются в Германии Rußteufel («дьявольская сажа»), Rußpfeife («свисток с сажей») или Mehlpfeife («мучной свисток»). Происхождение этой забавы связано со старой немецкой легендой о святом Бруно, в которой говорится о появлении таких игрушек в X в.: Бруно Кверфуртский услышал о тяжелой судьбе христианских священников в Пруссии и решил помочь им, обратив язычников в христианство. Он отправился туда в Пасхальный понедельник на осле в сопровождении своих братьев Буркхардта и Гебхарта. В Кверфурте осел Бруно внезапно остановился и не мог более пошевелиться. Братья пришли к выводу, что это путешествие против божественной воли и решили вернуться в замок Кверфурт. Бруно стал им возражать, говоря, что это происки Сатаны. Он продолжил свое путешествие в Пруссию, где был схвачен язычниками и предан смерти. В его память братья построили церковь на том месте, где осел остановился, и назвали эту церковь Stätte des Esels («Остановка осла»), а гончары стали изготавливать свистульки с двумя свистками, один из которых олицетворял правильный путь, а другой – отступничество, которое каралось попаданием в нелепую ситуацию (человек, обсыпанный мукой или сажей, подвергался всеобщему осмеянию). Ря- дом с Stätte des Esels открывалась ярмарка, на которой традиционно продавались корзины, наполненные посудой из фаянса, а также свистульками-всадниками в зеленой глазури. Такие свистульки и сегодня производятся, и их можно купить как сувенир в магазине при музее крепости г. Кверфурт (Фото 3).
Ярмарками, на которых продавались детские свистульки, сопровождалось большинство религиозных праздников не только в Германии, но и в ряде других стран Европы, например, во Франции и Польше. В Кракове (Польша) до сих пор существует обычай в пасхальные дни ставить на площади Звежи-нец за Дембицким мостом палатки и лотки, в которых идет бойкая торговля свистульками [16, c. 213]. В г. Канове-ди-Роана (Италия) в день святого Марка тоже проходит ярмарка, на которой продают свистульки. Использование свистулек на этих фестивалях имеет очень глубокие корни: это явное наложение нового понимания на предыдущие языческие обряды. Наличие ярмарок свистулек в праздники

Фото 3. Свистулька в виде всадника (г. Кверфурт, ФРГ) (фото авторов)
по всей Европе без конкретного религиозного объяснения подтверждает их дохристианское происхождение.
В книге «Легенды Флориваля, или Немецкая мифология в долине Эльзаса» («Légendes du Florival ou la Mythologie allemande dans une vallée d’Alsace»), выпущенной в 1866 г. аббатом C. Брауном, следующим образом описывается празднование дня святого Гангольфа: «…позади часовни рядом с объектами благочестия разворачивается ярмарка, на которой продается особенно много свистулек в виде кукушек и сов, наваленных кучей в корзинах. Но вскоре кукушки и совы исчезнут, как будто они улетели. Они будут радовать, по крайней мере, несколько дней всех детей страны; тот, кто возвращается с праздника святого Гангольфа, должен, как хороший паломник, вернуться домой хотя бы с одной кукушкой и совой» [38, p. 119].
В Люксембурге праздник Эмешен (Emaischen) и праздник гончаров совпадают, они отмечаются в один день – Пасхальный понедельник. В этот день традиционно проходят ярмарки с продажей свистулек. До настоящего времени тысячи людей приходят на ярмарку, чтобы купить в подарок себе или друзьям маленькую глиняную свистульку ручной работы – «пеквельхер» (Péckvillercher). Такое же совпадение отмечается и во Франции. В Сен-Льё-Лафенас на Тарне (Saint-Lieux-Lafenasse dans le Tarn) на следующий день после Пасхи проводится фестиваль «Кукушка» (Du coucut) [40, p. 156].
Некоторые из таких праздников, доживших до наших дней, имеют специфическое название, например, «Ярмарка свистулек» («Heyro dous chioulets») в день паломничества святого Серата в Симорре (Франция).
Подводя итог, необходимо отметить, что использование свистулек во время праздников или их продажа на ярмарках, сопровождавших праздники, воспринимались не как непотребство, нарушение благочестия, а как очистительный ритуал.
При этом важно подчеркнуть, что даже когда речь идет о церковных праздниках, не стоит воспринимать свист и свистульку как религиозные атрибуты. Безусловно, традиция использования свистулек имеет под собой на- громождение различных пластов, причем каждая эпоха вносит в эти ритуалы свои обычаи и символику.
Из наиболее важных моментов необходимо выделить следующие:
во-первых, многие из современных религиозных праздников, а также связанных с ними ярмарок, на которых осуществляется продажа свистулек, наложились на древние дохристианские традиции;
во-вторых, из всех языческих традиций, в которых задействован свист, одними из самых ярких и хорошо сохранившихся являются обряды, связанные с поминовением усопших (считается, что души умерших производят звуки, подобные свисту); официальная религия противодействовала подобным языческим обрядам и даже пыталась запрещать их;
в-третьих, включение элементов свиста, а также особая популяризация свистульки как атрибута религиозного действа, как правило, связано с местом, в котором развит гончарный промысел и проводятся гончарные ярмарки;
в-четвертых, систематизация и обобщение эпизодов появления свиста и свистульки как религиозных атрибутов представляются достаточно сложными; как правило, исследователи связывают появление свиста в отправлении религиозного культа с календарем древних аграрных обрядов, прежде всего, с наступлением весны и весенними работами; однако праздники с использованием свистулек распределены в Европе по всему календарному году и лишь одна дата является в этом смысле общей для многих европейских стран – Рождество (использование свиста и свистулек во время полуночной мессы, когда священник возвещает о рождении Христа).
Полученные результаты работы определяют личный вклад авторов в исследование заявленной в заглавии темы, который заключается, прежде всего, в первоначальной постановке проблемы использования свиста и свистулек в религиозно-обрядовой традиции народов России и Европы. При этом данная статья является лишь попыткой обобщения обширного фактического материала и не ис- черпывает всей проблематики использования свиста и свистульки в религиозных и приближенных к ним обрядах на территории России и Европы. Перспективы исследования связа- ны, в первую очередь, с анализом отдельных образов свистулек, используемых в религиозных обрядах, в том числе образов святых и нечистой силы.
Oxana V. GORDIENKO
Ludmila A. SHCHERBAKOVA
Whistling and Whistles in Russian and European Religious Culture: A Comparative Analysis
Список литературы Свист и свистулька в русской и европейской религиозной культуре: опыт сравнительного анализа
- Агапкина Т. А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюжетика и образ мира. М.: Индрик, 2010.
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 4-х т. М.: Современный писатель, 1995. Т. 1.
- Библия - Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в современном русском переводе / Под ред. М. П. Кулакова и М. М. Кулакова. М.: Издательство ББИ, 2015. [Электронный ресурс] // Библия онлайн. URL: https://bible.by (дата обращения: 12.05.2020).
- Библия сиречь книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. СПб.: б. и., 1751.
- Библия. Синодальный перевод. М.: Российско-библейское общество, 2009.
- Библия. Новый русский перевод «Слово Жизни». Нью-Йорк: Международное библейское общество Bíblica / Bíblica, Inc. [Электронный ресурс] // Библия онлайн. URL: https://bible.by (дата обращения: 12.05.2020).
- Бычков В. Н. Музыкальные инструменты. М.: АСТ-ПРЕСС, 2000.
- Валенцова М. М. Способы магического воздействия в традиционной культуре славян: дунуть, плюнуть и сказать // Образ человека в языке и культуре. М.: М.: Индрик, 2018. С. 259-275. DOI: 10.31168/2619-0834.
- Виленов В. Призрак на палубе. М.: Вече, 2010.
- Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси: в 2-х т. Т. 1. Харьков: Епархиальная типография, 1916.
- Глушков И. Топографо-статистическое и этнографическое описание города Котельнича // Записки Императорского Русского Географического общества. 1862. Кн. 1. С. 1-105.
- Греков А. У Искусство западноевропейской игрушки. Сергиев посад: Русский фейерверк, 2006.
- Гура А. В. Мифы славян. М.: Индрик, 2000.
- Забылин М. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М.: Автор, 1992. (Репринтное воспроизведение издания 1880 г.).
- Зеленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии. М.: Индрик, 1995.
- Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Конец XIX - начало ХХ в.: в 4-х т. / Отв. ред. С. А. Токарев. М.: Наука, 1977. Т. 2. Весенние праздники.
- Коршунков В. А. Свистопляска // Энциклопедия земли Вятской: в 10-ти т. / Сост. В. А. Поздеев. Киров: Вятка, 1998. Том 8: Этнография, фольклор. С. 341-362.
- Лебедев В. В. Вятские записки. Л.: Издательство писателей, 1933.
- Никифоровский Н. Я. Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильна: Типо-Литография Товарищества п. ф. «Н. Мацъ и К°», 1907.
- Опыт переложения на русский язык Священных Книг Ветхого Завета архим. Макария Глухарева (с масоретского текста). [Электронный ресурс] // Русский портал. URL: http://biblia.russportal.ru/index. php?id=masor.macar (дата обращения: 12.05.2020).
- Осетров Е. И. Живая Древняя Русь. М.: Просвещение, 197б.
- Плотникова А. А. О символике свиста // Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М.: Индрик, 1999. С. 73-84.
- Плотникова А. А. Южные славяне в балканском и общеславянском контексте: Этнолингвистические очерки / Отв. ред. С. М. Толстая. М.: Ин-т славяноведения Рос. акад. наук, 2013.
- Пчеловодова И. В. Феномен свиста в календарной традиции удмуртов // Ритмы и голоса природы в музыке: Сб. статей. Вып. 3 / Ред.-сост.: И. А. Чудинова, А. А. Тимошенко. СПб: Рос. ин-т ист. искусств, 2011. С. 80-84.
- Санникова О. В. Польская мифологическая лексика в этнолингвистическом и сравнительно-историческом освещении: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.
- Святитель Иоанн Златоуст. Собрание сочинений: в 12-ти т. Почаев: Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005. Т. б. Беседы на пророка Исаию.
- Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2-е. / Отв. ред. С. М. Толстая. М.: Международные отношения, 2002.
- Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти тт. / Под общей ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 1999. Т. 2. Д - К (Крошки).
- Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5-ти т. / Под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 2012. Т. 5: С (Сказка) - Я (Ящерица).
- Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Сороколетов. СПб.: Наука , 2002. Выпуск 3б: С - Свят-ковать.
- Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 3. М.: Университетская типография, 1838.
- СУРА 8: «Добыча»: 35 // Коран / Пер. И. Ю. Крач-ковского. Ростов н/Д: Феникс, 2009.
- Творения блаженного Иеронима Стридонско-го / Библиотека Творений Св. Отцов и Учителей Церкви Западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии. Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1900. Ч. 15: Толкования на пророков Захарию и Малахию.
- Титов А. А. Ростовский уезд Ярославской губернии (историко-археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда). М.: Синодальная типография, 1885.
- Чулков М. Д. Абевега русских суеверий. М.: Книга по требованию, 2011.
- Святе Письмо Старого i Нового Завггу, Римська Бiблiя, Бiблiя перекладу Хоменка. [Electronic Resource]. URL:https://bible.by/ubh/38/10/ и https://bible.by/ ubh/23/5/ (access date: 12.05.2020).
- Baudoin L. Histoire Generale De La Seyne-Sur-Mer. Marseille: L'imprimerie Saint-Victor, 19б5.
- Braun C. Légendes du Florival ou la Mythologie allemande dans une vallée d'Alsace. Guebwiller: Typographie J. B. Jung, 18бб.
- Fes Ta Festa. [Electronic Resource]. URL: http:// festafesta.net/?p=9656 (access date: 12.05.2020).