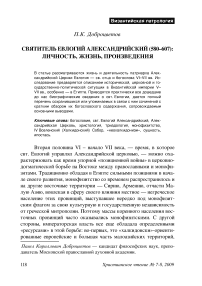Святитель Евлогий Александрийский (580–607): личность, жизнь, произведения
Автор: Доброцветов Павел Кириллович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Византийская Патрология
Статья в выпуске: 7-8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются жизнь и деятельность патриарха Александрийской Церкви Евлогия — св. отца и богослова VI–VII вв. Исследование предваряется описанием исторической, церковной и государственнополитической ситуации в Византийской империи V– VII вв., особенно — в Египте. Приводятся практически все дошедшие до нас биографические сведения о свт. Евлогии, дается полный перечень сохранившихся или упоминаемых в связи с ним сочинений с кратким обзором их богословского содержания, сопровождаемым основными выводами.
Богословие, свт. евлогий александрийский, александрийская церковь, христология, триадология, монофизитство, iv вселенский (халкидонский) собор, "неохалкидонизм", сущность, ипостась
Короткий адрес: https://sciup.org/140189862
IDR: 140189862
Текст научной статьи Святитель Евлогий Александрийский (580–607): личность, жизнь, произведения
Вторая половина VI - начало VII века, — время, в которое свт. Евлогий управлял Александрийской церковью, — можно охарактеризовать как время упорной «позиционной войны» в церковнодогматической борьбе на Востоке между православными и монофизитами. Традиционно обладая в Египте сильными позициями в начале своего развития, монофизитство со временем распространилось и на другие восточные территории — Сирию, Армению, отчасти Малую Азию, вовлекая в сферу своего влияния местное — негреческое население этих провинций, выступавшее нередко под монофизит -ским флагом за свою культурную и государственную независимость от греческой митрополии. Поэтому массы коренного населения восточных провинций часто оказывались монофизитскими. С другой стороны, императорская власть все еще обладала определенными «ресурсами» в этой борьбе: во-первых, это «халкидонски»-ориенти-рованные европейские и большая часть малоазийских территорий,
Павел Кириллович Доброцветов — кандидат философских наук, преподаватель Московской православной духовной академии.
во-вторых, воля власти церковной и гражданской к отстаиванию Православия, а в-третьих, позиция довольно значительной прослойки греческого населения, традиционно выступавшей за вероопреде-ление Халкидона на восточных территориях. Поэтому в эту эпоху борьба между православными и монофизитами шла с переменным успехом. Однако, как можно предположить, на Востоке у сторонников монофизитства и сочувствующих ему был численный перевес. Напряжение ситуации усугублялось еще и тем, что далеко не все византийские императоры были на стороне халкидонитов, а некоторые или вовсе поддерживали монофизитов, или проводили политику унии, или стремились самоустраниться от решения этой проблемы, которая фактически расколола население на востоке империи по религиозному признаку. Этот раскол был готов вылиться во что-то большее, чем раскол и противостояние. Были нужны для этого некие внешние условия, и они нашлись в VII веке в виде персидской и арабской угроз, которые и выявили поддержку захватчикам местного, монофизитского населения, оппозиционного «халки-донскому» имперскому центру, что во многом и объясняло быстрый захват этих территорий персами и арабами. На востоке в этот «позиционный» период противостояния основная тяжесть борьбы легла на плечи местных православных архиереев и государственных чиновников, поддержанных относительным меньшинством оставшегося верным Православию населения — так называемыми «мелкита-ми »1 . Неспокойствие усиливалось также и тем, что само монофи-зитство не было однородным, но распалось на множество течений и сект, часто враждовавших не только с «халкидонитами», то есть православными, но и между собой. Масло в огонь подливали еретики — иудеи и самаряне, в большом количестве проживавшие на востоке империи, и в том числе в Египте. Будучи настроены враждебно к императорской власти и христианству в целом, они периодически устраивали волнения и кровавые бунты, которые приходилось усмирять с помощью военной силы.
Из перечисления всех этих факторов можно видеть, что в эту эпоху положение Александрийских патриархов в своем диоцезе, ставшем оплотом последователей монофизитства, было весьма непрочно, а власть ограниченна и далека от той безграничной «деспотии», которой обладали в Египте их предшественники, такие как свт. Афанасий, и, особенно, свт. Кирилл и Феофил Александрийские.
Имя свт. Евлогия Александрийского упоминается в числе богословов-полемистов VI в., представителей так называемого «неохалкидонизма», то есть тех православных отцов Церкви и церковных писателей, которые защищали и объясняли богословие Халкидонского Собора в VI веке. Они стремились согласовать Хал-кидонское вероопределение с некоторыми не упомянутыми на этом Соборе формулировками свт. Кирилла Александрийского, и, в частности, знаменитым выражением «единая воплощенная природа Бога-Слова »2 . Это было необходимо по разным причинам, среди которых было уврачевание монофизитского раскола на востоке империи и опровержение монофизитов, которые считали себя строгими последователями свт. Кирилла Александрийского, а также защита богословия Халкидона от обвинений в несторианстве. Поэтому свт. Евлогий прежде всего выступал как православный полемист.
О времени рождения свт. Евлогия нам ничего не известно, а те сведения о его жизни, которыми мы обладаем, весьма скудны и ограничены. По происхождению Евлогий был грекоговорящий сириец, родом, по-видимому, из Антиохии или других районов Сирии. Он прошел все ступени церковно-иерархической лестницы на пути своего административного восхождения. Вначале монах и клирик
Антиохийской православной церкви «халкидонской ориентации »3 , он жил затем, как можно предположить, по делам Антиохийской церкви, некоторое время в Константинополе, где завязал «искреннюю дружбу »4 с апокрисиарием Римского папы Пелагия II при византийском императоре Тиверии II — Григорием (будущим Римским папой свт. Григорием Великим (Двоесловом )5) , которая продолжалась до смерти последнего в 604 г. В последние десятилетия своей жизни друзья уже не имели возможности встречаться и общаться лично, но поддерживали между собой дружескую переписку, от которой сохранилось некоторое количество писем свт. Григория к Евлогию: десять писем персонально адресованных ем у6 , а также три, направленных восточным патриархам, и, в том числе, Евлогию как патриарху Александрийском у7 . Эти письма не только являются важным источником для реконструкции деталей жизненного пути свт. Евлогия, но и несут в себе немало важной историче -ской информации, в том числе — по поводу отношений Римского и Восточных патриархатов в конце VI века.
До восшествия на Александрийскую кафедру Евлогий был игуменом Богородичного «Юстинианова» монастыря в Антиохии. Как видный ревнитель православия, он был удостоен должности синкелла Антиохийского патриарх а8, а также, по словам церковного историка Иоанна Ефесского, возглавлял странноприимный дом
(ξενοδοχε‹ον)9. В 580 г. император Тиверий II назначил его православным («мелкитским», «халкидонитским») Александрийским патриархом, сменившим на кафедре Иоанна II. Положение Евлогия на кафедре сразу оказалось сложным, поскольку он — как иностранец, избранный без участия египетского клира и посвященный в Константинополе — встретил большие трудности в совершении своего архиерейского служения. Патриаршество Евлогия пришлось на один из самых сложных периодов острого противостояния как между православными (дифизитами) и монофизитами в Александрийской церкви, так и между различными течениями внутри самого монофизитства. В этих условиях свт. Евлогий проявил себя как его непримиримый и деятельный противник, и напротив, последовательный сторонник IV Вселенского Собора в Халкидоне, полемист против монофизитства и других ересей, как талантливый и решительный администратор и достойный архиерей. Он рассылал по египетским монастырям, многие из которых были заражены монофи-зитской ересью, свои сочинения, строил в Александрии новые православные храмы. В частности, он восстановил церковь св. мученика Юлиана10, построил храм Пресвятой Богородицы «Дорофеи»11. В своей борьбе прибегал к помощи императорской власти и вынудил монофизитского Александрийского патриарха Дамиана в 602 г. бежать из Египта. Во время произошедшего в Александрии восстания и возникшей в городе анархии, ему пришлось взять на себя, помимо церковной власти, также гражданскую и военную, сместив с должности императорского префекта Иоанна12.
Ревностная защита деяний IV Вселенского Собора и Томоса свт. Льва Великого отражена в описании, переданном блаж. Иоанном Мосхом, чудесного троекратного явления синкеллу Евлогия, епископу города Дарны в Ливии Феодору во сне вместе со свт. Евлогием уже преставившегося к тому времени свт. Льва, который благодарил Евлогия от лица Господа Иисуса Христа и св. апостола Петра за то, что он «прекрасно и сильно вступился за послание (То-мос), раскрыл его мысль и заградил уста еретиков»13. Однако противостояние широких масс коптского монофизитского населения не позволило святителю утвердить свою церковную власть в Верхнем Египте14. Ненависть монофизитов выразилась, в частности, в распространении клеветнических слухов о его занятиях языческой магией с человеческими жертвоприношениями15. В 588 (589) г. свт. Евлогий собрал в Александрии собор для борьбы против секты иудейской направленности — самарян-досифеян16. Свт. Евлогий поддерживал с Римской церковью в лице свт. Григория Двоеслова духовные, богословские и даже хозяйственные (поставки леса на судах в Алек- сандрию) контакты. Свт. Григорий Двоеслов в своих письмах к Евлогию сообщает об отправке им личного подарка Александрийскому патриарху — креста с частицей вериг свв. апостолов Петра и Павла, а кроме того, усвояет Евлогию не только успехи в активной деятельности против еретиков в Египте, но также высокую добродетельную жизнь и силу молитвы, исцеляющей самого Григория от болезни и способствующей обращению язычников северной Европы в христианство17.
Святитель Евлогий Александрийский почил 13 февраля 607 или 608 г., его память Православная Церковь празднует 13 / 26 февраля.
Острейшая религиозная конфронтация в Египте того времени отразилась и на большом количестве богословских сочинений свт. Евлогия, которые носили, как правило, полемический характер. Христианская древность сохранила сведения о 7 догматико-полемических трактатах, 3 экзегетических комментариях и 12 словах этого святого отца. Свт. Фотий, хотя и называл язык сочинений Евлогия лишенным элегантности и не без солицизмов в построении фраз, а Михаил Сириец осуждал не совсем чистый греческий язык Евлогия, однако доказательная сила диалектических аргументов последнего, и в том числе, по мнению свт. Фотия, была неотразимо й18 . В целом язык и характер богословия свт. Евлогия можно определить скорее как аналитический.
К сожалению, подлинные произведения его сохранились лишь во фрагментах:
-
1. «Защищения» ( Σ unhgor…ai, Defensiones) (PG. 86. 2956 В– 2957 В; Doctrina Patrum. P. 209–213; CPG. 6972).
-
2. «Сомнения православного» (Dubitationes orthodoxi) или «Семь глав о двух природах Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа» ( Κ ef£laia ˜pt¦ περ ˆ tîn dÚo φ Ú σεων toà Kur…ou κα ˆ Θεο à κα ˆ Σωτερ Ò ς ¹mîn Ιησο à Χριστο à) (PG. 86. 2937–2940, PG. 91. 264–265; Doctrina Patrum. P. 152–155; CPG. 6971).
-
3. Экзегетические фрагменты (на Пс 31:1–2; три на Лк; Ин 21:16) (PG. 86. 2961–2964; CPG. 6973–6975).
Патриарх Фотий перечисляет еще целый ряд названий не сохранившихся сочинений, приводя краткий конспект их содержания:
-
1. «Против новациан» (Contra Novatianos) 6 книг (Phot. Bibl. Cod. 182, 208, 280; PG. 103. 532–536; 677; PG. 104. 325–356).
-
2. «Против Тимофея и Севира» ( Κ a τ ¦ Timoqšou kaˆ Seb»rou, Contra Severum et Timotheum) (Phot. Bibl. Cod. 225; PG. 103. 939–949).
-
3. «Против Феодосия и Севира» ( Κ a τ ¦ Qeodos…ou kaˆ Seb»rou, Contra Theodosium et Severum) (Phot. Bibl. Cod. 226; PG. 103. 949–953).
-
4. «Против феодосиан и гайанитов» ( Λ Ògoj sthliteutikÕj kat¦ tÁj gegenhmenhj to
а также 11 слов:
-
1. «Апология соборных писаний» (Apologia pro litteris synodicis) (PG. 103. 1024–1028 A);
-
2. «Изложение веры» (Expositio fidei) (PG. 103. 1028 AC);
-
6. «Против тех, которые думают, что можно основать истинное христианское богословие на человеческих понятиях» (Adversus eos, qui putant humanis conсeptionibus veram theologiam christi-anam posse subiici) (PG. 103. 1060 B–1069 B);
-
7. «К Домициану еп. Мелитинскому» (Ad Domitianem Melitenum) (PG. 103. 1069 B–1073 A);
-
8. «К Христофору» (Ad Christophorum) (PG. 103. 1073 A–1077 C);
-
9. «Увещание к удаляющим себя от Церкви» (Paraensis ad eos qui ab Ecclesia discesserunt) (PG. 103. 1077 D–1080 D);
-
10. «Против агноитов» (Adversus Agnoetas) (PG. 103. 1080 D– 1084 C);
-
11. «Против самаритян-досифеян» (Adversus Samaritas Dositheanos) (PG. 103. 1084 D–1088; CPG. 6976).
3–5.Три «Апологии Халкидонского собора» (PG. 103. 1028 C–1060 A);
Кроме того, свт. Евлогию приписывались некоторые сочинения, авторство которых признано неподлинным или сомнительным: «Слово о Троице и Воплощении» ( Λ Ògoj περ ˆ Τρι £ δος kaˆ tÁj θει £ ς o„konom…aj toà ˜nÕj tÁj Τρι £ δος Θεο à Λ Ògo υ ; De Trinitate et de In-carnatione) (Phot. Bibl. Cod. 227; PG. 86. 2940–2944; CPG. 6979) поначалу признававшееся принадлежащим авторству Евлогия (O. Bar-denhewer, С.Л. Епифанович), впоследствии было признано сомнительным (С.Л. Епифанович, А.И. Бриллиантов) и относящимся к более позднему времени борьбы против монофелитства, и принадлежащим предположительно свт. Епифанию II Кипрскому — современнику VI Вселенского Собора 680–681 г. Известное «Слово на праздник Ваий» ( Л 6goj e„j ta Baia kai e„j ton pmlon; Sermo in ramos palmarum et in pullum asini) (PG. 86. 2913–2937) также признается неподлинным и принадлежащим перу свт. Софрония Иерусалимского (С.Л. Епифанович). Гипотезу о неподлинности части фрагментов из сочинения Σ unhgor…ai (P. 69–71, 193–198, 205–206, 214–216, 220–221) содержащихся в сборнике Doctrina Patrum — «Учение Отцов» (DP) высказал M. Richar d19 . Кроме того, признаны не принадлежащими Евлогию также некоторые фрагменты в PG. 86 (2944 D — 2956 A, 2957 C — 2960 C). Их авторство принято усваивать перу Иоанна Грамматика Кесарийского.
Главная сфера богословского наследия свт. Евлогия — хри-стологическая, наиболее актуальная в эпоху споров с монофизитами. Впрочем, он в своих сочинениях касался и других тем, как косвенно связанных с христологией — триадологии и уяснению смысла триадологических категорий, так и не связанных с ней — проблематики Св. Предания, борьбы с ересями, экзегетики Св. Писания.
Ниже мы приводим перевод сохранившихся фрагментов из двух христологических сочинений свт. Евлогия Александрийского — два из его «Защищений» и серии глав из «Сомнений православно- го». Эти произведения носят полемический и апологетический характер и направлены на опровержение монофизитского учения о единой природе Христа и на подтверждение учения Халкидонского Собора о двух природах во Христе. Публикуемые сочинения обращены к монофизитским оппонентам православных. В «Защищени-ях» свт. Евлогий опровергает буквальное применение монофизитами к соединению во Христе Божества и человечества аналогии души и тела как простых природ в одной сложной природе человека, состоящего из души и тела, и продолжающих свое природное су -ществование и после разлучения. Свт. Евлогий, следуя положениям святоотеческой антропологии, отвергает тезис о самостоятельности души и тела и о возможности называть душу и тело разными природами. По мысли свт. Евлогия душа и тело в человеке хотя и иносущ-ны, то есть не тождественны друг другу в силу материальности тела и бесплотности души, однако не иноприродны, поскольку составляют одну природу человека и не мыслятся абсолютно отдельно друг от друга, но получают свое «определение» в рамках человече -ской природы как тело человека и душа человека, но не сами по себе. Кроме того, данная аналогия должна привести не к двойственности во Христе (человечество и Божество), но к тройственности (плоть, душа, Божество), и подобная тройственность, в таком виде выраженная, весьма сомнительна. В «Сомнениях православного» свт. Евлогий предлагает целый ряд апорий — логических затруднений, с точки зрения предшествующего и признаваемого и самими монофизитами церковного учения, проистекающих из монофизит-ского учения об одной природе Христа. Напротив же, по мысли свт. Евлогия эти затруднения вынуждают противников Халкидона признать две природы во Христе.
Кроме того, ниже приведен перевод богословского сочинения свт. Евлогия под названием «Против тех, которые думают, что можно основать истинное христианское богословие на человеческих понятиях», сохранившегося в кратком конспекте свт. Фотия Константинопольского в его «Библиотеке». Данное произведение, даже в передаче свт. Фотия, как, в данном случае пересказчика и компилятора, представляет собой образец, так сказать, высокого богословия и посвяще- но теоретическим проблемам православной триадологии — учению о Святой Троице. Свт. Евлогий здесь занят «аналитикой триадологических категорий» — осмыслением и определением понятий «ипостась», «сущность» и других. Доходя до самых основ православного учения о Святой Троице, он исправляет возможные логические ошибки в понимании термина «ипостась», проистекающие из сложившейся категориальной традиции в логике, в связи с пониманием этого термина как сложения (сплетения) общего и частного. Свт. Евлогий дает «обратную перспективу» употребления богословской категории «ипостась» и возвращает сам процесс богословствования в «церковную сферу», на почву Священного Писания, оторвавшись от которых некоторые богословы (и в особенности еретики), уйдя в область чистого логико-понятийного теоретизирования, не только делали неправильные или даже еретические выводы, но и просто-напросто формировали неверное представление о Боге-Троице и Его Лицах. Они занимались тем, что оперируя такими понятиями как «ипостась», «природа», «свойство», «особенность», «частное», «общее» и др., образно выражаясь, «раскладывали» Святую Троицу «по полочкам» своего разума, превращая Живого Бога в систему рассудочных категорий и логических схем, подчиняя Его правилам логики человеческих рассуждений. Из-за вовлечения в христологическое богословие, начиная с Халкидонского Собора 451 года, «исконно» триадологических понятий (ипостась, лицо, сущность, природа, единосу-щие), неправильное понимание этих терминов оказывало свое влияние и на сферу христологического богословия, идейно подпитывая некоторые ереси (в первую очередь монофизитство). Поэтому свт. Евлогий обращается в вышеупомянутом сочинении к проблеме определения точного смысла понятий.
Кроме того, свт. Евлогий поднимает важную теоретическую проблему соотношения богословского языка и Той Божественной реальности, на Которую язык богословия призван указывать. Главным лейтмотивом всего сочинения является решение проблемы адекватности и теоретической эффективности богословского языка и его понятий, проблемы не только богословской, но и философско-гносеологической. Еще ранее та же проблема несопостави- мости человеческих средств познания и отображения познанного применительно к Богу и реальности духовной вставала в связи с т.н. антропоморфизмом в широком смысле слова20. В сочинениях христианских авторов-экзегетов, таких, как свт. Григорий Нисский, прп. Максим Исповедник, и особенно в «Ареопагитиках», «антропоморфическая» экзегетическая проблема была успешно решена посредством анагогического толкования, то есть истолкования чувственных образов Священного Писания в духовном смысле — подобающем Богу, пребывающему Своей духовной Природой превыше всякого чувственного образа. Та же проблема, впрочем в специфическом аспекте, вставала применительно к пониманию Священного Писания еще ранее — в эпоху мужей апостольских, и особенно раннехристианских апологетов, ведших полемику против иудаизма. Они доказывали иудеям, что Писание, Бога в Писании и образы Его Откровения о Христе стоит толковать не по-иудейски приземлено, но достойно Бога как Духа, то есть типологически. Впрочем, и здесь целому ряду авторов не удалось последовательно провести в жизнь этот принцип подхода к Писанию, примером чего являются достаточно частые случаи хилиазма, то есть истолкования эсхатологических фрагментов Писания в иудейско-буквальном «приземленном» смысле установления земного тысячелетнего Царства Христа. Проблема, которую затрагивает свт. Евлогий — из той же области. Ее отличие от вышепере- численных примеров в том, что инвариантом ее является не образ и чувственно-образные исторические описания, но абстрактно-логические понятия и категории, в которых и проходила, по-преимуществу, христологическая полемика V — VI веков. Однако суть проблемы осталась той же — всегдашний необходимый «учет» статуса и свойств природы Божества и мира духовного при выражении этой Реальности, в богословии ли, в церковном искусстве, в экзегетике. Если же такой «учет» не производится, то это чревато серьезными богословскими и практическими — для духовной жизни — ошибками и заблуждениями, обнаруживающимися лишь на фоне общей картины церковного учения. Случай, о котором идет речь в этом сочинении свт. Евлогия — весьма «тонкий»: определение понятия ипостаси на формально-логическом уровне предполагает определенную двойственность, а следовательно — некоторую сложность. Ипостась характеризуется сочетанием (буквально — «сплетением») общего (природа, сущность) и частного («идиома» — частное или личное свойство, «идиотэс» — особенность). Однако, вследствие церковного учения об абсолютной простоте Божества, даже не нарушаемой тройственностью Ипостасей во Святой Троице, проистекает затруднение (апория): Ипостась в Троице сложна или проста? Если проста, то как совместить эту простоту с логическим определением ипостаси как сложения (частного и общего), если сложна, то как можно примирить эту сложность с простотой Божества, не допускающей никакой сложности? И свт. Евлогий как богослов, будучи строгим логиком, определенным образом решает это логическое затруднение. Он «разводит в стороны» две реальности — реальность Божественную, характеризующуюся простотой природы Божества и реальность человеческого мышления, которое подразумевает под собой реальность (сложную и протяженную) материального мира, в котором живет человек, и который невольно определяет человеческое мышление, которое также поэтому характеризуется сложностью и определенной дискретностью. Свт. Евлогий призывает не смешивать две эти реальности во избежание путаницы и ошибок. В итоге получается, что «уверенный тон» «отточенного и отшлифованного» богословского категориального языка применительно к Богу в Его Сущности оказывается не совсем, мягко говоря, адекватным.
Впрочем, это не ставит вопроса о ненужности богословия как такового, а скорее гносеологического апофатического смирения богословия в силу признания определенной условности целого ряда важнейших категорий и определений. Кстати, этим же свт. Евлогий мастерски предвосхищает православный подход ко всякого рода западной Средневековой (и не только) схоластике, как зачастую искусного «конструирования» и «комбинирования» понятий, в забвении о Том, о Ком эти понятия и о Его реальном бытийном статусе. Свт. Евлогий, показывая несостоятельность устоявшегося понимания «рационалистического» богословия с опорой на логические категории, и тем самым «убирая» эту опору, не оставляет здания христианского богословия без опоры вообще, а указывает скорее на подлинный фундамент христианского богословия — Священное Писание, в котором и находятся главные категории христианского богословия, пусть и не абсолютно подчиняющиеся строгой понятийной логике «рационального богословия», зато освященные авторитетом богодухновенности Божественного Откровения. Среди таких понятий, а лучше сказать — Божественных имен — и такие «нелогичные», но напротив, по-библейски натуралистичные, как Премудрость, Сын Божий, Сила Отчая и другие. Впрочем, и обсуждаемое в триадологических и христологических спорах понятие ипостаси встречается здесь же — в Писании (Евр 1:3), однако не имеет в языке Библии того абсолютного значения, которое ему было придано в «рациональном» богословии, но употребляется наравне с другими. Поэтому святой отец настойчиво обращает внимание читателя от богословия рационального к богословию библейскому.
В целом же можно сказать, что рассматриваемые сочинения свт. Евлогия Александрийского представляют собой образцы самого высокого по своей теоретичности святоотеческого богословия. Хочется надеяться, что они привлекут к себе благосклонное внимание современного читателя, которое искупит собой возможные недостатки перевода.
Список литературы Святитель Евлогий Александрийский (580–607): личность, жизнь, произведения
- Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах Церкви. Т. 3. СПБ., 1859 [репр.: Сергиев Посад, 1996].
- Berardino di A. Patrology. Vol. V. Cambridge, 2006.
- Grillmeier A. Christ in Christian Tradition. Vol. II. Part 4. Westminster, US, 2002.
- Maspero J. Histoire des Patriarches D’Alexandrie. Paris, 1923.