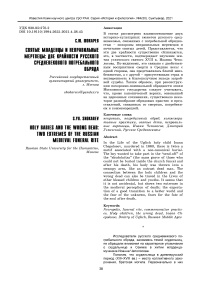Святые младенцы и неправильные мертвецы: две крайности русского средневекового погребального обряда
Автор: Шокарев С.Ю.
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Статья в выпуске: 4 (50), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено взаимоотношение двух историко-культурных сюжетов русского средневековья, связанных с погребальной обрядностью - похороны неправильных мертвецов и почитание святых детей. Представляется, что эти две крайности существенно сближаются, это, в частности, подтверждает изучение жития угличского святого XVII в. Иоанна Чеполосова. По-видимому, это связано с двойственным восприятием смерти в Средние века: с одной стороны, она представлялась благой неизбежностью, а с другой - присутствовали страх и неуверенность в благополучном исходе загробной судьбы. Таким образом, при реконструкции похоронно-поминальной обрядности эпохи Московского государства следует учитывать, что, кроме канонической версии, основанной на церковных сочинениях, существовало некоторое разнообразие обрядовых практик и представлений, связанных со смертью, погребением и коммеморацией.
Некрополь, погребальный обряд, коммеморативные практики, святые дети, неправильные мертвецы, иоанн чеполосов, дмитрий угличский, русское средневековье
Короткий адрес: https://sciup.org/149139314
IDR: 149139314 | УДК: 930.85:270.2 | DOI: 10.19110/1994-5655-2021-4-38-45
Текст научной статьи Святые младенцы и неправильные мертвецы: две крайности русского средневекового погребального обряда
Исследователи русского средневекового погребального обряда, занимаясь темой скудельниц, не обращали внимания на характерное упоминание о скудельнице и Семике в житии младенца-мученика Иоанна Чеполосова.
Поясним, что скудельница в древнерусский период (XIII–XVIII вв.) – место коллективного захоронения, братская могила. Первоначально в них
хоронили жертв эпидемий, вражеских набегов и других бедствий. Возникновение скудельниц связано с тем, что хоронить большое количество людей по традиционному обряду было невозможно («не успеваху живыи мертвых опрятывати»). По мере заполнения эти братские могилы закапывали. Со второй половины XV в. известны скудельницы другого типа, действовавшие постоянно. В них хоронили умерших «нужными» и «напрасными» смертями: сгоревших в пожаре, утонувших, убитых разбойниками, казненных, а также неопознанные тела, найденные в городе, на дорогах, в поле или в лесу.
Такие скудельницы закапывались раз в год – на Семик (в седьмой четверг по Пасхе) на неделе Святых Отец (Троицкой, Русальей неделе). «Проводы» скудельницы представляли собой значимый в городской жизни обряд. Священники служили общую панихиду по умершим и скудельница засыпалась (иногда трупы извлекались, омывались, заворачивались в саваны и погребались в отдельных гробах). Тут же выкапывалась новая яма. Затем справлялась поминальная трапеза; блины, пироги и другие яства раздавались нищим [1–5].
Термин «скудельница» имеет евангельское происхождение. В Евангелии от Матфея сказано, что на 30 сребреников, которые Иуда бросил в храме, первосвященники купили «село скудeльничо, в погребaние страннымъ». В синодальном переводе «село скудельничо» передано как «земля горшечника» (Мф 27: 6–7). По объяснению первого исследователя скудельниц И.М. Снегирева, земля («село») горшечника была истощена выработкой и потому отведена для погребения странников. С XVI в. скудельницы также именуются Божиими (Божьими) домами, или Убогими домами.
В историографии существуют разные взгляды на средневековое отношение к мертвым, которых хоронили в скудельницах (подробнее см.: [6]).
Д.К. Зеленину принадлежит концепция, согласно которой умершие неестественной или преждевременной смертью именовались «заложными» мертвецами и отличались от почитаемых покойников-предков (родителей). «Заложных» мертвецов нельзя было хоронить на кладбище, их тела бросали в пустом месте, закапывали в поле, в лесу, кидали в реку, болото, овраг. Создание скудельниц (Убогих домов) стало компромиссом между церковью и народными обычаями. Ежегодный обряд «провожать» скудельницу в Семик Д.К. Зеленин считал более древним, чем сами Убогие дома и языческими по происхождению [7, с. 39–73, 129–140].
А.И. Алексеев, рассматривая становление традиции поминовения умерших неестественной смертью, согласился с наблюдениями Д.К. Зеленина. Исследователь видит истоки поминальных дней Радуница и Семик в весенних языческих обрядах, призванных умилостивить «заложных» покойников. Распространение (с XIII в. скудельниц) сначала в связи с эпидемиями, а затем на постоянной основе и требование Церкви хоронить «заложных» в земле не сопровождалось церковным отпеванием тех, кто умер насильственной смертью. Однако рост эсхатологических ожиданий в связи с приближающимся 7000-м годом (1492 г.) привел к появлению особого поминовения умерших «напрасной» смертью. Согласно выводам А.И. Алексеева, впервые оно появляется в синодике Павло-Обнорского монастыря (1481 г.), а в 1548 г. митрополитом Макарием была установлена «общая память» всем христианам, скончавшимся насильственной или неестественной смертью [7, с. 102–122; 8, с. 135–154].
А.С. Лавров считает, что церковнослужители не только приняли представление о «заложных» как компромисс, но в XVIII в. стремились расширить эту категорию, отказывая в погребении тем, кто не исповедовался и не причастился перед смертью (в том числе старообрядцам). Исследователь обратил внимание на сходство между «заложными» мертвецами и культами «народных святых» («святых без житий»). Он отмечает случаи почитания святых, умерших необычной смертью (Артемий Верколь-ский, Адриан Пошехонский), и сходство между отверженными мертвецами и некоторыми святыми: тело находится за пределами кладбища, оно не подвержено тлению, что свойственно как мощам святых, так и трупам «заложных» покойников [10, с. 159, 160, 208, 209].
Близость между святыми «без житий» и особым «классом» мертвых – забудущими родителями, – отметил С.А. Штырков. Забудущие родители – это не вредоносные «заложные» мертвецы, они помогают тем, кто их почитает, но при этом наказывают тех, кто относится без уважения. Почитание забу-дущих родителей связано с древними кладбищами (жальниками), а сами они воспринимаются как представители иных народов (чудь, литва) [11].
Взгляды Д.К. Зеленина развил А.А. Булычев в работе, посвященной посмертной судьбе опальных Ивана Грозного. По его мнению, царевичу Ивану Ивановичу, убитому отцом, грозила участь «залож-ного» мертвеца. Чтобы спасти сына, Иван Грозный организовал повсеместное поминовение его души и повелел учредить поминовение опальных. А.А. Булычев установил, что в монастырях поминовение опальных совершалось в разные дни, что свидетельствует о разных оценках монастырскими властями тех, кого казнил Иван Грозный. Так, власти Спасо-Прилуцкого монастыря поминали опальных в день, когда чествовали подвижников благочестия (25 февраля), а в Троице-Сергиевом монастыре поминовение опальных было установлено в Семик, когда поминались умершие «нужной» смертью, т.е. «заложные» мертвецы [12, с. 14–41, 177, 178, 205].
А.А. Булычев также обращается к теме скудельниц в связи с вопросом о погребении русских воинов, погибших на Куликовом поле. По его мнению, в результате органического смешения православного благочестия и языческих представлений, «неправильные» мертвецы получали «неправильные» могилы. Их хоронили в скудельницах, старых или заново насыпанных курганах. Появление таких могил, а также языческие тризны в Семик должны были оградить живых от агрессии «заложных». Участие духовенства в поминовении «заложных» объясняется, во-первых, отсутствием запрета на молитвенные ходатайства за умерших неестественной смертью, а, во-вторых, тем, что средневековое духовенство разделяло суеверия паствы [13, с. 28–39].
Вопрос о почитании святых, умерших неестественной смертью, рассмотрен Е.А. Рыжовой на материале житий Русского Севера. Автор пишет: «При исследовании житий праведников выясняется, что они являются произведениями, рассказывающими об умерших неестественной, “напрасной” смертью <…> и не получивших церковного погребения». Е.А. Рыжова приводит обширный список таких подвижников (канонизированных и не канонизированных): Артемий Веркольский, Варлаам Ке-ретский, Никанор Ручьевский, Адриан Пошехонский, Иаков Боровицкий, вологодские белоризцы, Логгин и Иоанн Яренгские, Антоний и Феликс, сыновья Марфы Посадницы и др. Удостоился почитания даже Кирилл Вельский, покончивший жизнь самоубийством. Е.А. Рыжова также отмечает, что среди святых Русского Севера часто встречаются отроки и если возраст праведника неизвестен, то в устной традиции он осмысляется как отрок [14, с. 410–442; см. также: 15, 16].
Корректировку термина «заложные» предложил А.А. Панченко. По его представлению, «залож-ные» покойники («заложные родители») – это неизвестные, забытые умершие, лишенные поминовения (церковного и обрядового), которые могут напоминать о себе вредоносными действиями. «Речь, по-видимому, идет не об устойчивой “категории” крестьянской культуры, но о поверьях и обычаях, возникающих вследствие каких-либо “сбоев” в ритуальных практиках погребального и поминального цикла, а также демографических разрывов». Среди «народных святых», о которых пишет А.А. Панченко, немало умерших неестественной смертью, тем не менее автор считает неверным напрямую связывать неправильных покойников и «народных святых»: «Я не думаю, что представления о “забытых покойниках” имеют непосредственное отношение к культам “святых без житий”, однако предполагаю, что последние тоже имеют отношение к “сбоям” и “разрывам” поминальных практик и погребальной обрядности» [17, с. 95–152, 164–166, 314, 315].
Против того, что представления о «залож-ных» мертвецах были широко распространены в Средневековой России и питались языческими страхами, выступили К.Ю. Ерусалимский (в рецензии на книгу А.А. Булычева) [18] и более подробно А.Г. Авдеев [19, с. 15–19; 20]. Опираясь на памятники канонического права и церковно-учительные сочинения, А.Г. Авдеев установил, что решающую роль в создании скудельниц играли церковные иерархи и монастырские власти. Исследователь пришел к выводу о том, что «источники не отражают взаимосвязи между устройством скудельниц и страхом перед “заложными” покойниками. Напротив, Русская Церковь предписывала совершать захоронения безымянных тел по чину погребения мирян и творить над скудельницами поминальные богослужения». Тексты эпитафий XVI–XVII вв. свидетельствуют о включении умерших насильственной смертью в категорию тех, кто был достоин погребения на церковном кладбище.
Таким образом, в историографии сложились два взгляда на скудельницы и тех, кто был в них погребен.
Скудельницы отражают древние страхи перед вредоносными «заложными» мертвецами; это ненормальные могилы для ненормальных покойников, компромисс между Церковью и паствой, хранившей языческие представления.
Скудельницы восходят к библейской и евангельской традициям; это результат сочетания христианской заботы о мертвых с необходимостью соблюдать санитарно-гигиенические нормы.
Говоря о «заложных» покойниках, исследователи, начиная с Д.К. Зеленина, осознавали условность этого термина, имевшего позднее происхождение и локальное распространение. Более верно, на наш взгляд, было бы говорить об умерших неестественной смертью или неправильных мертвецах.
В работах А.С. Лаврова, С.А. Штыркова, Е.А. Рыжовой и А.А. Панченко отмечена близость между неправильными мертвецами и «народными святыми», многие из которых не получили христианского погребения, умерли «нужными» смертями, были убиты и даже являлись убийцами или самоубийцами (Кирилл Вельский, Иоанн Менюшский). Также рассматривалась «детская тема» в житиях «народных святых».
В этом отношении представляет интерес Житие младенца-мученика Иоанна Чеполосова.
Иоанн Чеполосов – сын угличского посадского человека Никифора Григорьевича Чеполосова (известен по документам XVII в.) и его супруги Анны. Он родился в 1657 г. В шесть лет мальчик начал заниматься в училище, куда его провожали отроки, а чаще некий «злобный человек» по имени Рудак. Родители мальчика почитали Рудака за «правление некихъ заводныхъ рукодельствъ», но тот ненавидел Чеполосовых. Однажды, когда мальчик направлялся в училище, Рудак уговорил его пойти вместе к Убогому дому, «понеже тогда и день семичнопогребения настояше оумершимъ, и крест-ныи ходъ от града на Оубогии домъ бывше». Блаженный, поверив злодею, забыл об учении («яко юныи младъ детищъ») и согласился. Рудак заманил Иоанна в свой дом, подождать появления крестного хода, и заточил.
В это время родители Иоанна отправились вместе с другими угличанами в составе крестного хода к Убогому дому («по християнскому закону, а наипаче по оусердному их благоверия тщанию»). За Иоанном отправили «неких отроков», но те не нашли мальчика в училище и решили, что он ушел к Убогому дому. С этой вестью они явились к родителям, возвращавшимся с крестного хода и «проводов» скудельницы («яко въ полудни»). Поиски Иоанна возле Убогого дома, а затем по всему городу и в реке оказались тщетными.
Рудак мучил мальчика 15 дней, заставляя его отречься от родителей и назвать себя отцом, а затем убил его ножом. Ночью убийца вынес тело и скрыл около церкви при Убогом доме: «во мховяз-кое блато втоптати покушается и прикрываетъ страдалческое блаженного Иоанна тело блатнымъ мхомъ до раменъ его предъпоогустелымъ земным прахомъ, аки плинфы сгустившимися твердаго мхо-сопряжения съ каломъ земнымъ, неявлено».
Попытка убийцы спрятать тело не удалась: над Иоанном по ночам зажигалась свеча «свята Божия» и слышалось ангельское пение. Спустя восемь дней пастухи обрели его, «на некоемъ чест-немъ высохшеблатномъ песце», «цело и невредимо». К телу младенца-мученика отправился крестный ход, его перенесли в церковь, где совершилось еще одно чудо – нож, пронзивший голову, выпал, как только его коснулась рука убийцы. Рудак был приговорен к сожжению, но мученик Иоанн, явившись к родителям, уговорил не казнить его. Злодей был наказан божественным наказанием – его съели черви. В 1689 г. родители начали строить над телом младенца каменную церковь, и во время строительства обрели нетленное тело мученика. После постройки церкви (Спаса Нерукотворного Образа с приделами Рождества св. Иоанна Предтечи и преподобного Симеона Столпника) по велению ростовского митрополита мощи Иоанна были положены в «приделе тепломъ трапезней стене въ церкви <...> на правой стране въ печюре» и прославились чудесами исцеления [21, с. 7–40].
По мнению А.А. Романовой, сюжет Жития опирался на случай, имевший место в действительности [22, с. 209, 210]. Созданное в середине XVIII в. в старообрядческой среде житие является точным в передаче деталей и обстоятельств. Упоминаемые в житии объекты легко отождествляются, включая церковь Рождества Иоанна Предтечи (сохранилась) и местоположение Убогого дома, где стояла церковь Воскресения Словущего. Есть некоторая странность с датами, которая пока не находит объяснения. Еще составитель Жития справедливо указал на несообразность в собственном изложении. Семичный крестный ход к Убогому дому в 1663 г. должен был состояться 4 июня, однако Рудак мучил мальчика 15 дней и убил 25 июня. Следовательно, заключил автор, «тогда и крестное хождение быти случися не въ 7, но въ осьмои четвертокъ» [21, с. 10]. В источниках иногда случаются указания на то, что скудельницы зарывали не в Семик, а в другие дни, однако смещение с седьмого на восьмой четверг по Пасхе требует объяснения, которого пока нет.
Помимо того, что Житие дополняет наши сведения о бытовании скудельниц (Убогих домов) в XVII в., оно продолжает линию сближения «народных святых» (особенно, святых детей) и неправильных мертвецов. Блаженный «младенец» (это определение употребляет Житие) намеревался принять участие в христианском обычае воздаяния последних почестей телам неправильных мертвецов. «Бе обычай во граде не похраняти найденныхъ на доро-гахъ умершихъ, утопшихъ, убитыхъ всякого чина людей, но клали въ нарочито устроенный сарай, называемый убогий домъ» [23, с. 75].
Житие не сообщает о том, как проходили «проводы» скудельницы, но это известно из других источников. Так, Софийский временник под 1474 г. повествует: «Человекъ некий во граде Москве хо-дивъ по обычаю къ селу скуделничу, иже имеютъ гражане на погребение страннымъ: обычай же имя-ху въ четвергъ 3. я недели ходити тамо, и купяху туто канонъ и свеща и молбу творяху о умершихъ (вкупе и сей и идяше), и загребаху старую яму, иже полну мертвыхъ накладену, а новую ископаху; ту же вси и копаютъ и засыпаютъ землею Бога ради…» [24, с. 141]. Здесь описан простейший способ «проводов» скудельницы: тела не извлекали из ямы, не обмывали и не заворачивали в саваны, яму просто засыпали. Однако и в этом случае благочестивые мотивы мальчика должны были быть весьма сильными, чтобы преодолеть страх и отвращение перед процедурой «проводов» скудельницы. Но вместо того, чтобы «провожать» «странных», младенец Иоанн сам оказался в положении неправильного мертвеца. Убийца бросил его тело в болотистой местности, прикрыв мхом (по Д.К. Зеленину, водная среда – самое частое место погребения «залож-ных»). Такая участь была гораздо хуже удела неправильных мертвецов из скудельницы. Церковные правила повелевали поступать так только с телами самоубийц и нераскаявшихся разбойников (с XVIII в., как отмечает А.С. Лавров, также умерших без покаяния и причастия). Тех, кто умер не «нужной» (насильственной), а «напрасной» (сопряженной с грехом) смертью [10, с. 28, 29; 19, с. 158, 159].
Житие проводит параллель между отверженными покойниками и судьбой младенца Иоанна: «Что же той всеокаянныи на всечестнемъ блажен-наго младенца теле: яковое милосердное сочисля-етъ погребение? Яковое святолепное желаетъ тво-рити помяновение? Но сего всего лишаетъ окаян-ныи!» [21, с. 20]. Но Бог объявил своего мученика и прославил его чудесами. Ночная свеча над телом мученика отсылает к евангельским словам о светильнике (свече), которую не оставляют под спудом (Мф. 5:15). Этот мотив встречается и в других житиях, в том числе в житии Даниила Переславского, создателя скудельницы в Троицком Переяславском монастыре. Старец и его современники видели свечи над скудельницами, свидетельствующие о праведности безымянных тел, похороненных в них [25, с. 380–384; 26, с. 4, 5, 8, 9].
Блаженный Иоанн Чеполосов не единственный святой ребенок, с телом которого происходят странные и неправильные происшествия. Для святых детей, это, скорее норма, что отмечено в работах Е.А. Рыжовой и А.А. Панченко. Это касается, в первую очередь, «народных святых» («святых без житий»). Не получили первоначально христианского погребения или претерпели приключения останки Иакова Боровичского (конец XV–начало XVI в.), Гликерии Новгородской († около 1520 г.), Артемия Веркольского († 1545 г.), Иоанна и Иакова Менюш-ских († 1560/1570 г.), Василия Мангазейского (около † 1602), Прасковьи Пиринемской (начало XVII в.), Прокопия Устьянского (первая половина XVII в.), Дмитрия Юромского (до первой половины XVIII в.) [10, с. 208, 209, 214; 14, с. 397–400; 17, с. 133–140]. Некоторые из них, как уже отмечалось, по характеру кончины являются неправильными мертвецами. Артемий Веркольский умер от страха во время грозы, Иоанн Менюшский в игре убил младшего брата, Иакова, испугался, залез в печь и там сгорел, Василий Мангазейский был убит хозяином лавки, в которой служил. Еще Г.П. Федотов отметил близость между младенцами, умершими насильственной смертью, и святыми страстотерпцами Борисом и
Глебом [27, с. 212]. Сходство усиливается юным возрастом Глеба и судьбой его останков, которые первоначально были брошены «в пустыни», а затем обретены нетленными; небесным светом над мощами святых мучеников.
Святых детей и неправильных мертвецов объединяют необычные обстоятельства смерти и особая судьба останков. Еще одно свойство, которое помещает святых младенцев и отроков одновременно в две категории – возраст. Общеизвестно, что дети безгрешны, и потому достойны блаженной кончины. Еще в домонгольскую эпоху это смущало духовенство, полагающее, что младенцев не следует отпевать, потому что у них нет грехов [28, стб. 36]. Митрополит Даниил обратился со специальным увещеванием, доказывая, что смерть младенцев (даже некрещеных) – высшее благо, которое может с ними произойти [29, с. 383–387]. Вместе с тем, ребенок (не только некрещеный) – неправильный покойник. В качестве «заложных» рассматривались также и те, кто ушел раньше срока, умер в молодости [7, с. 40, 70–73].
А.А. Романова ставит вопрос о том, как мог повлиять культ царевича Дмитрия Угличского на «всплеск» почитания святых детей в XVII в. [22, с. 207]. После Бориса и Глеба это следующий царственный страстотерпец, открывающий линию святых детей, умерших насильственной смертью. «Здесь жертвенное заклание соединяется с младенческой чистотой», – пишет Г.П. Федотов [27, с. 212]. Для младенца Иоанна Чеполосова это сходство дополняется географией и иными общими обстоятельствами (смерть от ножа, обретение и перенесение мощей). Также в житиях обоих святых детей присутствует сюжет с неправильными мертвецами. Житие царевича Дмитрия Угличского сообщает, что убийцы царевича («двенадесят числом») были побиты камнями «и повержены трупия их скверная на снедение псом быша в некоем рву, и потом сквер-нии их кости землею засыпани быша бесчестно» [30, с. 49].
Это сообщение исторически достоверно. В следственном деле об убийстве царевича Дмитрия Угличского содержатся указания на то, что тела Михаила и Даниила Битяговских, Осипа Волохова, Никиты Качалова и других людей, объявленных «убийцами», бросили в ров. «…Да Михайло ж, государь, Нагой велел убити посадских людей трех человек, которые были прихожи к Михайлу Битягов-скому, да Михайловых людей, Битяговского, четырех человек, да жоночку Михайлову, розстреляв, в воду посадили, да Осиповых людей, Волохова, двух человек, да Данила Третьякова человека: а побив тех людей, в ров велел пометать». Другой свидетель называет место, куда были сброшены тела, «оврагом». Над этими телами по приказу того же М.М. Нагого совершались манипуляции, призванные доказать вину мертвых в убийстве царевича Дмитрия [31, с. 25, 32, 55, 59, 73, 74]. Таким образом, М.М. Нагой, следуя традиции, определил М.М. Битяговского и других убитых как неправильных мертвецов, достойных самого крайнего презрения. В отличие от Жития Иоанна Чеполосова, где упоминание Убогого дома и Семика может быть лите- ратурным приемом, в Житии царевича Дмитрия Угличского судьба останков тех, кого обвинили в его убийстве, – реальный факт. Он свидетельствует о крайностях средневекового погребального обряда: от почитания святых останков до поругания трупов злодеев. Однако эти крайности сильно сближаются.
А.Г. Авдеев дает следующую характеристику некрополя Московской Руси. Традиционным видом некрополей являлись погребения в храмах (знать и церковные иерархи), на территории монастырей и в церковной ограде. Некрополь вокруг храма, объединявшего в литургическом и заупокойном богослужении живых и мертвых, составлял пространство «благой» кончины, изредка включавшей в себя умерших «нужной» смертью. Эпитафии некрополя создавали сакрализированную графосферу, которую поддерживали неотделимые друг от друга канонические и юридические нормы. В ее пределах находились погребения «рабов Божиих», удостоившихся правильного погребения, составлявших мемориальное пространство, соединенное поминальной культурой и молитвенной памятью. За пределами графосферы находилось безымянное пространство «нужной смерти» – скудельницы и иноземные кладбища. Погребение и поминовение неопознанных трупов в скудельнице считалось важнейшей христианской добродетелью. Однако время от времени власти разрешали хоронить в скудельницах тех, кто умер «напрасной» смертью, а также преступников. Это снижало степень сакрализации скудельниц, как вместилищ христианских останков. За пределами этого пространства находились ямы и другие места, куда бросали тела умерших «напрасной» смертью, тех, кого не могла принять даже скудельница – самоубийц, еретиков, нераскаявшихся преступников [19, с. 54, 55].
Эта реконструкция отражает средневековую норму. Однако данная норма была не единственной. Отступления от нее не ограничивались «сбоями» в погребально-поминальной обрядности, а порою представляли собой параллельные практики. Например, завещание святого митрополита Константина, приказавшего после смерти выбросить его тело за городские ворота на съедение псам (1159 г.), следовало, как показали А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский, древней аскетической традиции, известной по крайней мере с IV в. Желание избежать христианского погребения и подвергнуть свои останки поруганию высказывали в завещаниях и другие святые XIV–XVI вв. [32]. Этот вопрос рассматривает также Е.А. Рыжова, отмечая влияния этой традиции на культы «народных святых» [16].
Обратный пример представляют собой известные случаи погребения казненных аристократов и дворян при Иване Грозном. Церковные уставы предписывали хоронить казненных в Убогих домах. С.Б. Веселовский и А.А. Булычев проследили многочисленные примеры намеренного лишения опальных христианского погребения (рассечение тел на части и казни-погребения). Однако известно, что некоторые из казненных Иваном Грозным аристократов упокоились на родовых некрополях [33].
Выше уже говорилось, что преподобный Даниил Переславский и его современники видели све- чи и слышали колокольный звон над скудельницами. Это привело святого к мысли о святости тех, чьи безымянные останки находятся в скудельнице. «Коликих угодников, – восклицал он в чувстве благоговейного удивления, – имеет Бог, которых недостоин весь мир – и мы грешные недостойные сподобляемся видеть такие чудные видения! Мы их презираем, уничижаем – и по отшествии их из сей жизни лишаем погребения у Святых Божиих церквей, – не творим о них ни приношения, ни памяти; но Господь не только не оставляет их, но и прославляет» [26, с. 5].
Близость между святыми (не только «народными», но и вполне каноническими) и неправильными мертвецами (в том числе, лишенными даже общей могилы в скудельнице) свидетельствует о разнообразном отношении в русской средневековой традиции к умершим и практике погребения. Его нельзя ограничить канонической схемой и признать полностью соответствующим православным установлениям. Нельзя отрицать влияния дохристианских верований (язычества), тем не менее реконструкции на основании этнографического материала, вряд ли правомерны. Представляется более верной точка зрения Ив Левин, которая пишет о «переосмыслении христианских и дохристианских мотивов в народном воображении» [34, с. 29]. Вероятно, сближение между святыми младенцами и неправильными (включая отверженных) мертвецами образуется за счет соединения противоположных сущностей (чистота и блаженство с одной стороны, пугающая неизвестность и возможная агрессия – с другой). В свою очередь, эти крайности свидетельствуют о различном восприятии смерти, что отмечено на материале лицевых синодиков Л.Б. Сукиной в период XVI–XVII вв.: традиционном радостном отношении к ней и «нововременным» страхом перед неизвестностью, сомнениями и отвращением к телу, покинутому жизнью [35, с. 316–322].
Список литературы Святые младенцы и неправильные мертвецы: две крайности русского средневекового погребального обряда
- Снегирев И.М. О скудельницах, или Убогих домах в России // Труды и записки Общества истории и древностей российских. М., 1826. 17 Т. 3. Кн. 1. С. 235-263.
- Козюренок О.В. Скудельницы в Пскове XV-XVI вв. // Церковная археология: Материалы Первой Всероссийской конференции. Псков, 18 20-24 ноября 1995 г. Ч. 2. СПб., 1995. С. 117-120.
- Скрынникова Е.В. Божедомские кладбища: московский некрополь // Московский журнал. 2001. № 2. С. 60-62.
- Грузнова Е.Б. Похоронные обычаи на Руси в 19 конце XV—XVI вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2005. № 3. С.153-169.
- Сорокин АН. Скудельницы древнего Новгорода (к вопросу об особенностях древнерус- 20 ского погребального обряда в чрезвычайных ситуациях) // Исторические исследования. Журнал Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2015. № 3. С. 236262. 21.
- Афанасьева ИА. К вопросу о восприятии неестественной смерти на Руси XV-XVII вв.: отечественная историография // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2020. Вып. 93. С. 2138.
- Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995. 432 с.
- Алексеев А.И. Установление «общей памяти» при митрополите Макарии. Исторический экскурс: церковное поминовение умерших «напрасною» смертью // Макариевские чтения. VI российская научная конференция «Канонизация святых на Руси». Можайск, 10-12 июня 1998 г. Можайск, 1999. С. 102122.
- Алексеев А.И. Духовная культура Средневековой Руси. М., 2016. 272 с. Лавров А.С. Колдовство и религия в России. 1700-1740 гг. М., 2000. 574 с.
- Штырков СА «Святые без житий» и забудущие родители: церковная канонизация и народная традиция // Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции: Сб. статей. М., 2001. С. 130-155.
- Булычев АА. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. М., 2005. 304 с.
- Булычев АА Куликово поле: Живые и мертвые. Тула, 2014. 88 с.
- Рыжова ЕА. Жития праведников в агиографической традиции Русского Севера // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2007. Т. 58. С. 390-442.
- Рыжова Е.А. Севернорусская агиография в контексте традиционной народной культуры («почему убитые громом - святые») // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера: Материалы IV Международной научной конференции «Рябининские чтения-2003»). Петрозаводск, 2003. С. 368-374.
- Рыжова Е.А. Модель смерти святого в агиографической традиции: завещания о «небрежении» к телу и мотив «тайные слуги господа» // Вестник Сыктывкарского университета. Серия гуманитарных наук. 2019. № 1 (9). С. 82-97.
- Панченко АА Иван и Яков - необычные святые из болотистой местности: «Крестьянская агиология» и религиозные практики в России Нового времени. М., 2012. 448 с.
- Ерусалимский К.Ю. Между канонизированными и демонизированными: Казни Ивана Грозного в культурно-символической интерпретации (размышления над книгой А.А. Булычева) // Одиссей: Человек в истории. 2009. М., 2010. С. 361-390.
- Авдеев А.Г. Регулирование захоронений на некрополях Московской Руси: правила, нормы, обычаи, суеверия // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. М., 2020. № 4 (20). С. 7-77.
- Авдеев А.Г. Суеверия, поминальная культура и старорусская эпиграфика // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2019. Вып. II (86). С. 61-80.
- Житие и страдания святого праведного Иоанна убиенного Угличского / Подгот. текста, послесловие, комм. И.В. Сагнак. Рыбинск, 2011. 128 с.
- Романова АА. Почитание святых детей как феномен русской святости в XVII веке // Научный диалог. 2016. № 9 (57). С. 205216.
- Сказание о убиении блаженнаго Иоанна Никифоровича Чеполосова, 1663-го года июня 25 дня (Окончание) // Ярославские епархиальные ведомости. № 10. 1867. Часть неофициальная. С. 75—79.
- Софийский временник, или Русская летопись с 862 по 1534 год. Ч. II. С 1425 по 1534 год. М., 1824.
- Мельник А.Г. Огонь в практиках почитания русских святых в XI-XVII веках // Иерото-пия огня и света в культуре византийского мира / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2013. С. 380-393.
- Свирелин А.И. Жития святых Переславских чудотворцев: Никиты столпника, Даниила игумена, благоверного КНЯЗЯ Андрея и Кор-нилия молчальника. М., 2005. 22 с.
- Федотов Г.П. Святые Древней Руси / Пре-дисл. Д.С. Лихачева и А.В. Меня; комм. С.С. Бычкова. М., 1990. 269 с.
- Памятники древнерусского канонического права: Ч. 1 (Памятники XI—XV в.) / Ред. А. С. Павлов. 2-е изд. СПб., 1908. 1472 с. и стб., разд. паг. (Русская историческая библиотека. Т. 6).
- Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881. 890 с.
- Житие святаго благовернаго царевича Дмит-рея Ивановича Углецкаго / Подгот. текста, послесл. и коммент. И.В. Сагнак. Рыбинск, 2009. 200 с.
- Дело об убийстве царевича Димитрия. М., 2012. 88 с.
- Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Что стоит за отказом митрополита Константина от христианского погребения в 1159 г.? // Ruthe-nica. 2009. Т. VIII. С. 7-30.
- Шокарев С.Ю. Стремился ли Иван Грозный лишить своих жертв христианского погребения и спасения души? // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXXIII Международной научной конференции. М., 2020. С.457-459.
- Левин Ив. Двоеверие и народная религия в истории России / Пер. с англ. А.Л. Топоркова и З.Н. Исидоровой. М., 2004. 216 с.
- Сукина Л.Б. Человек верующий в русской культуре XVI-XVII веков. М., 2011. 424 с.